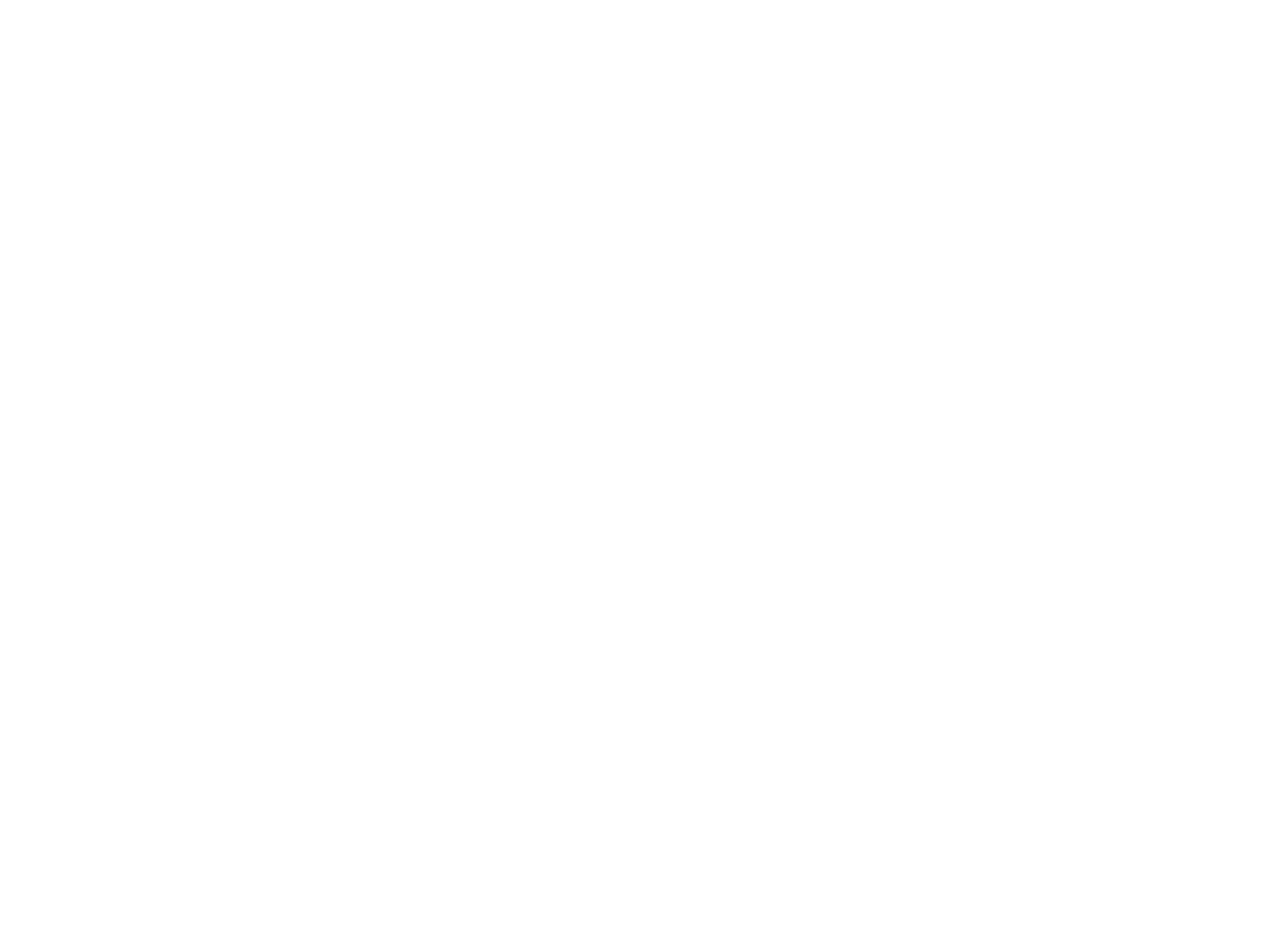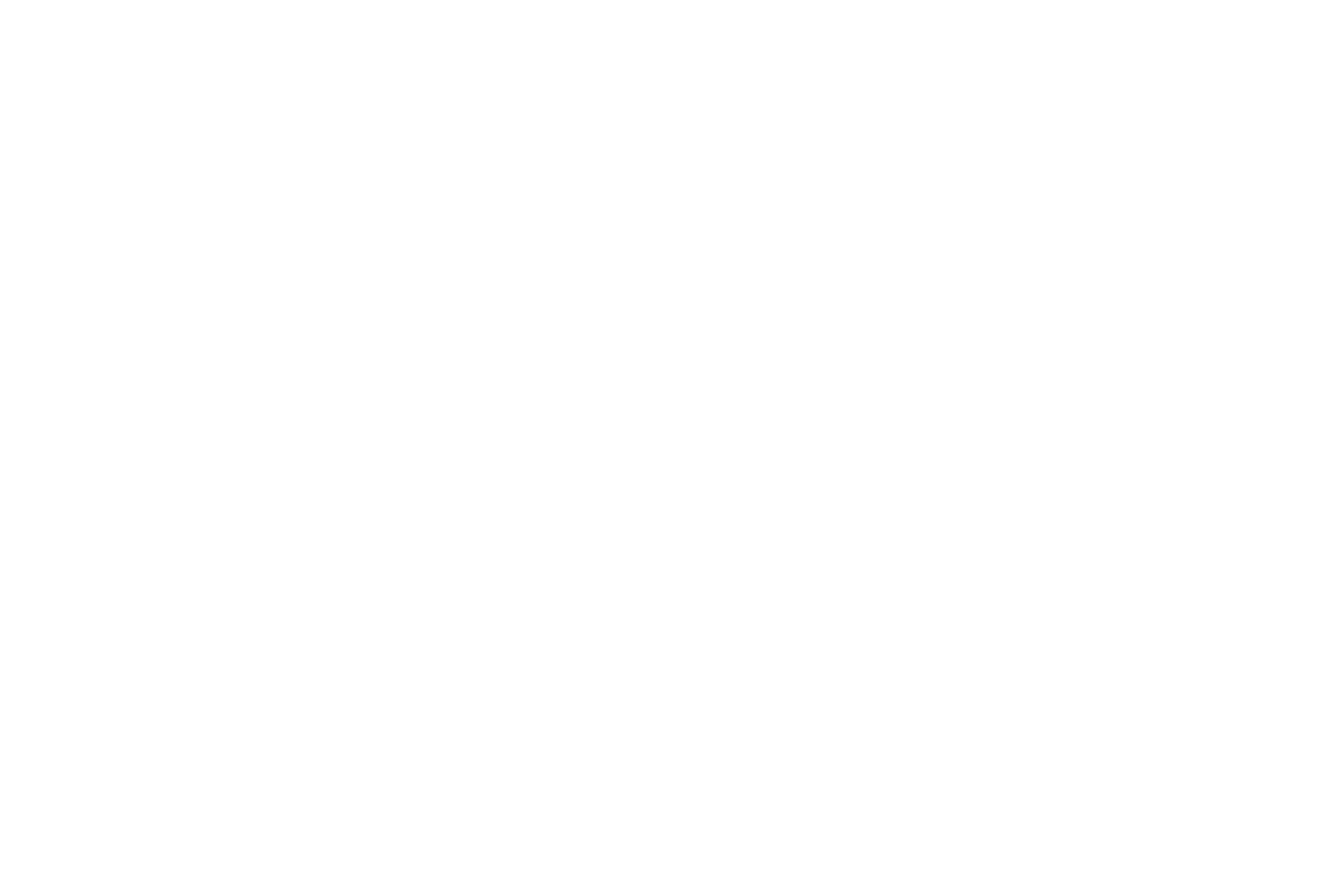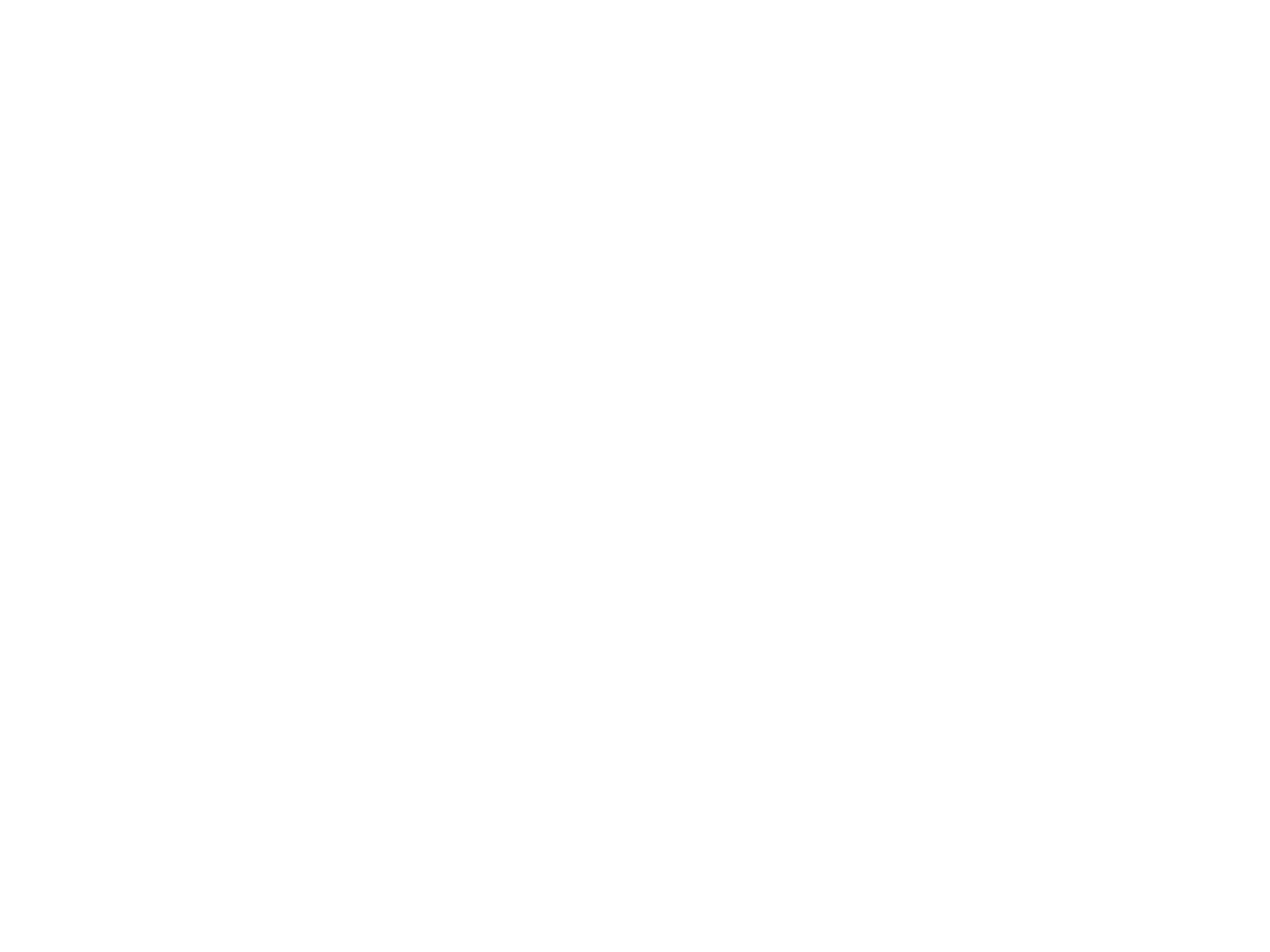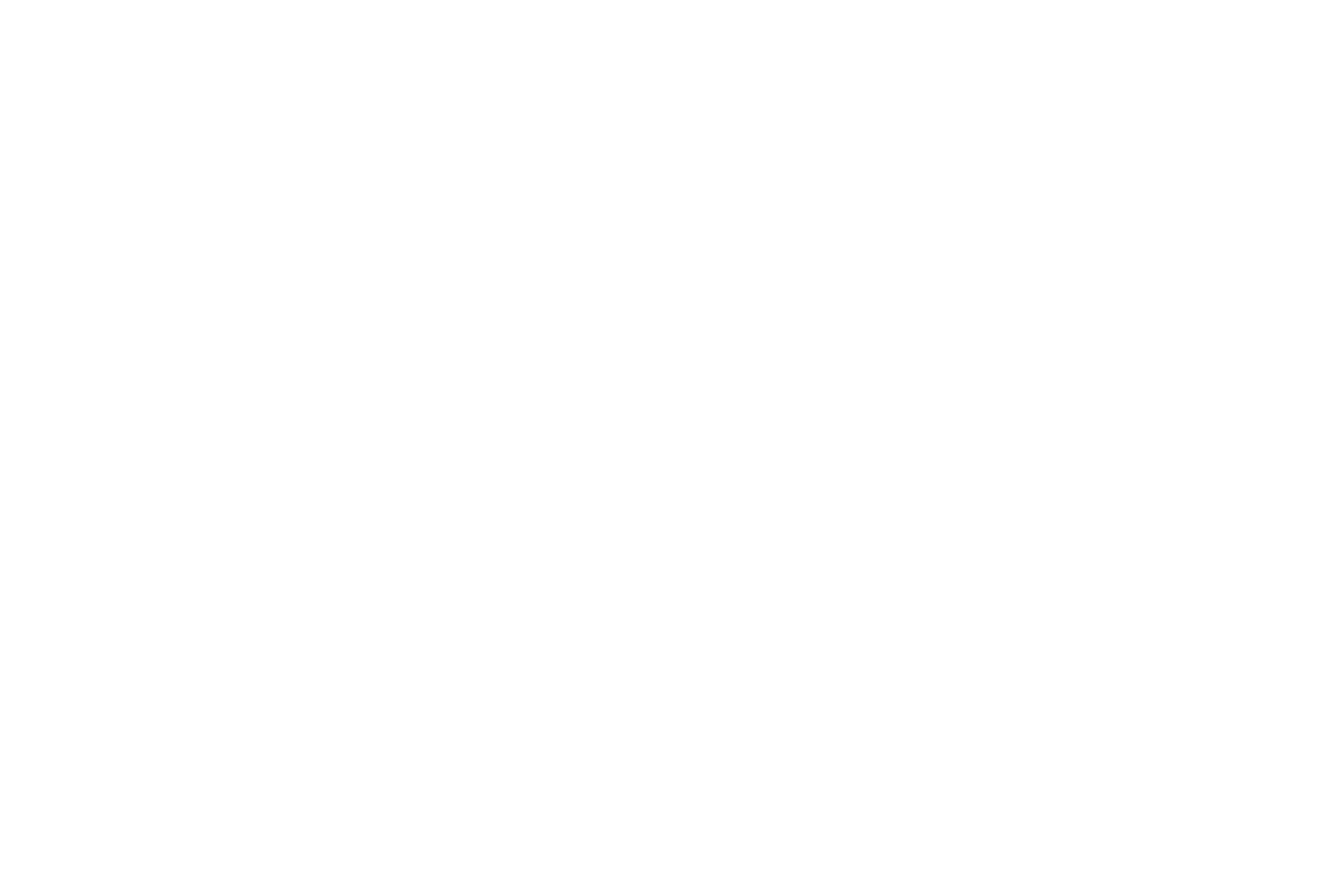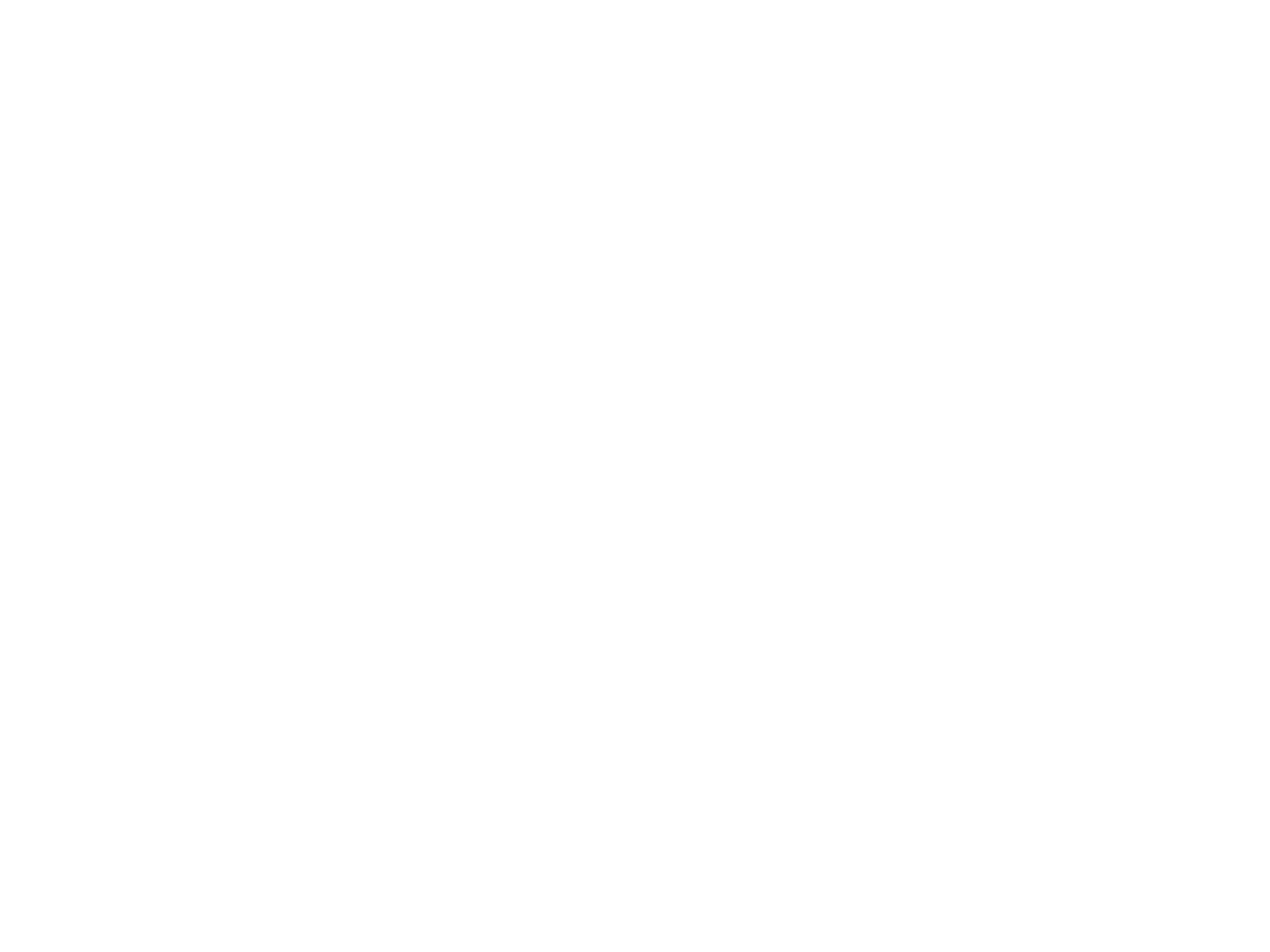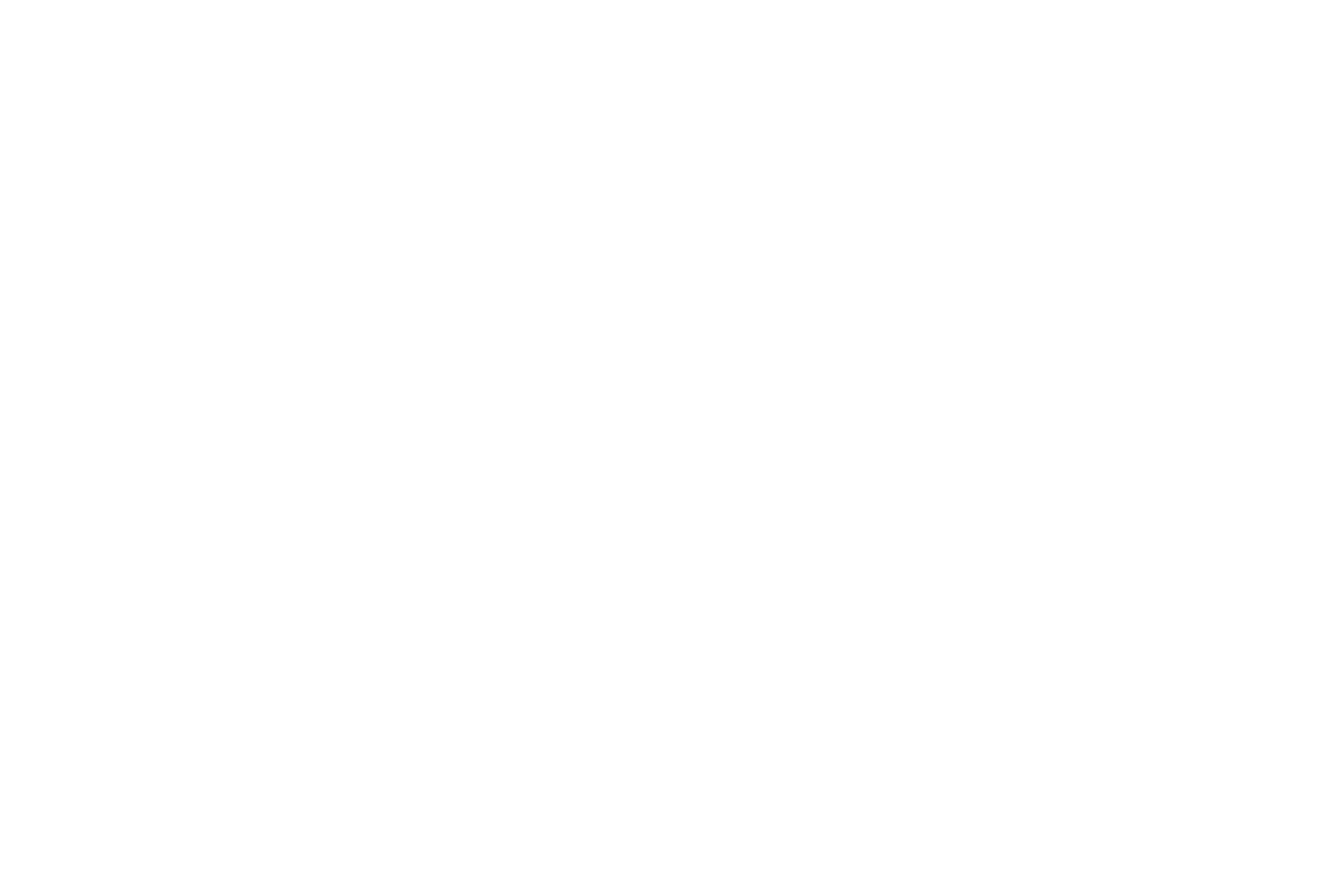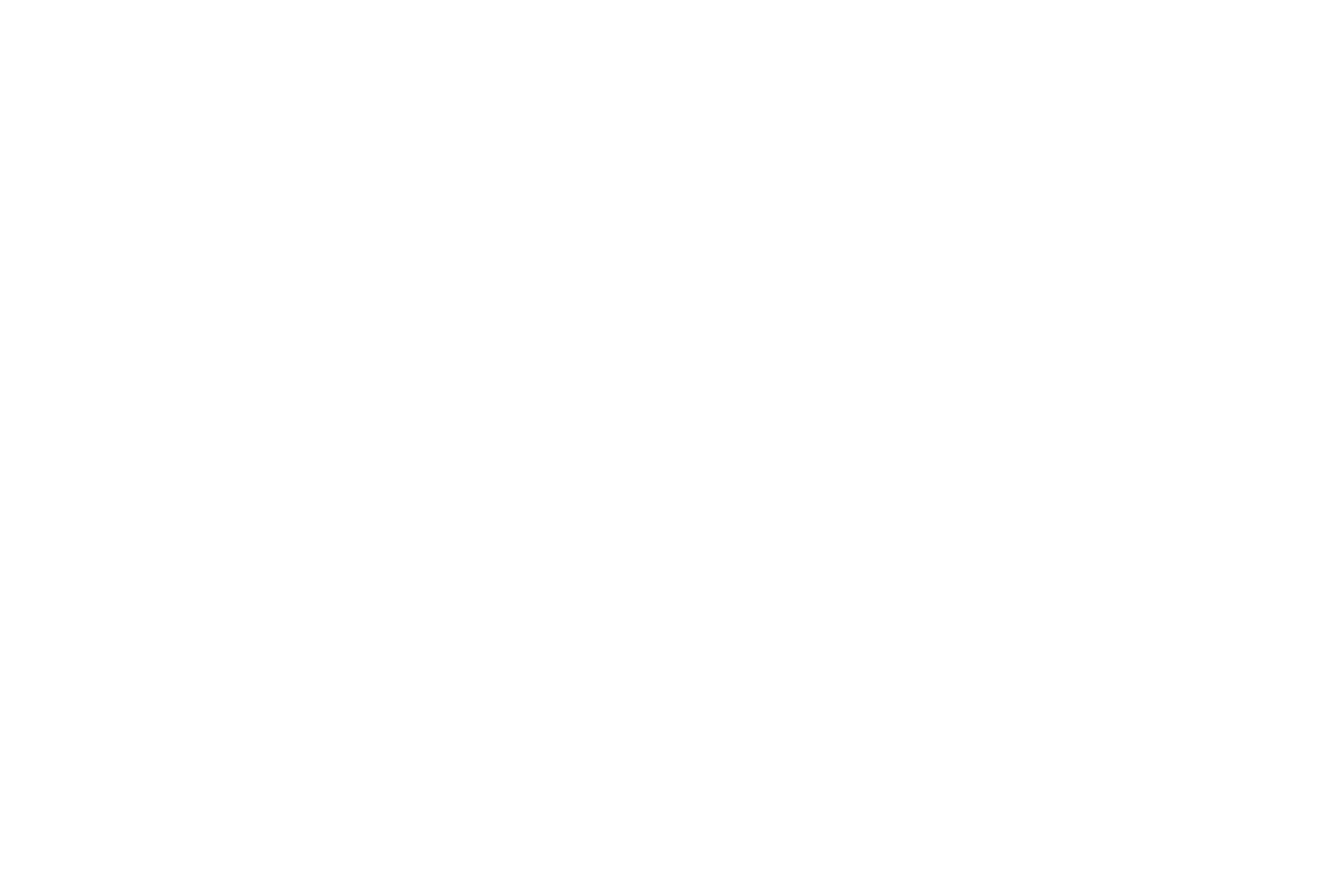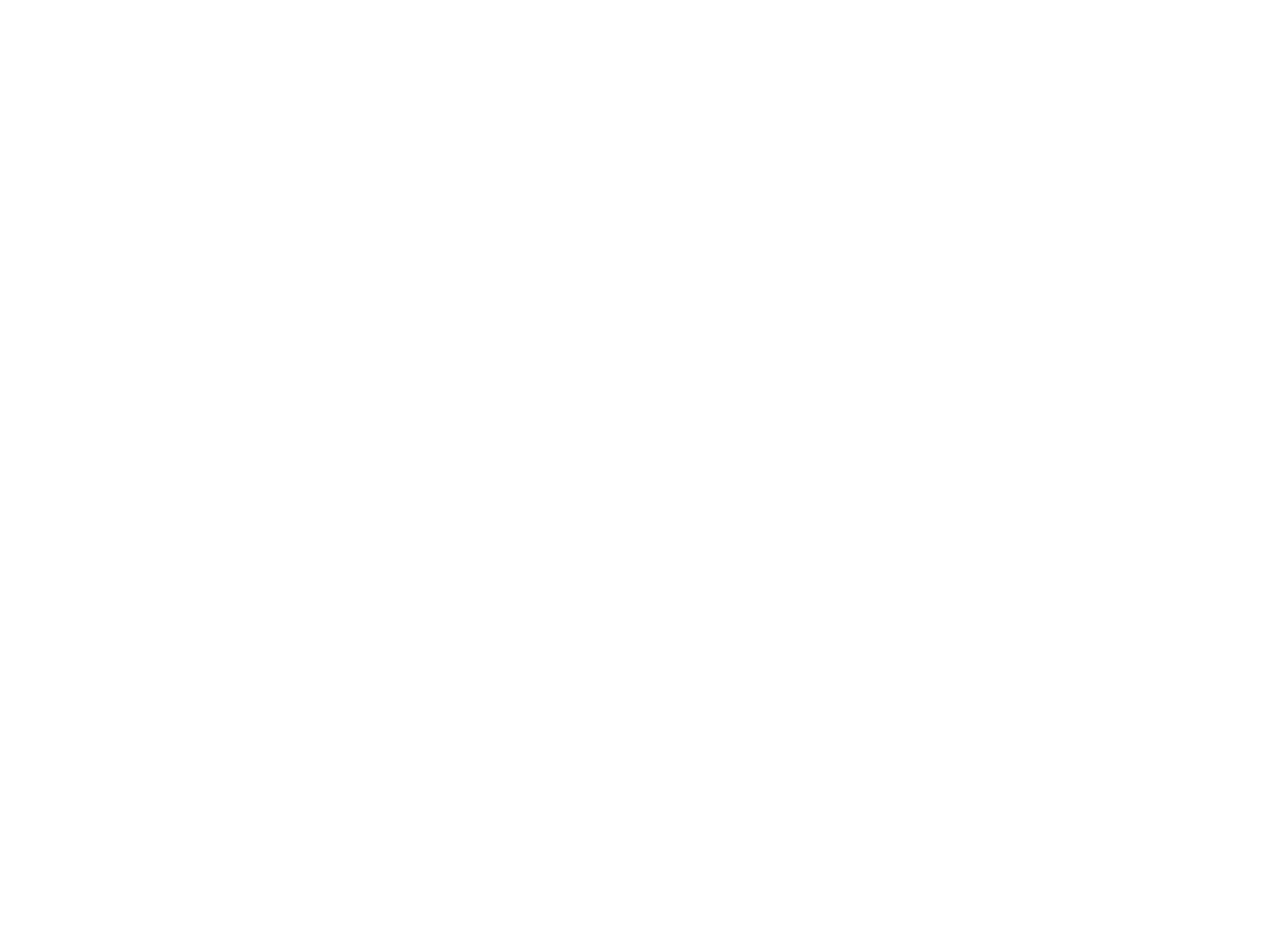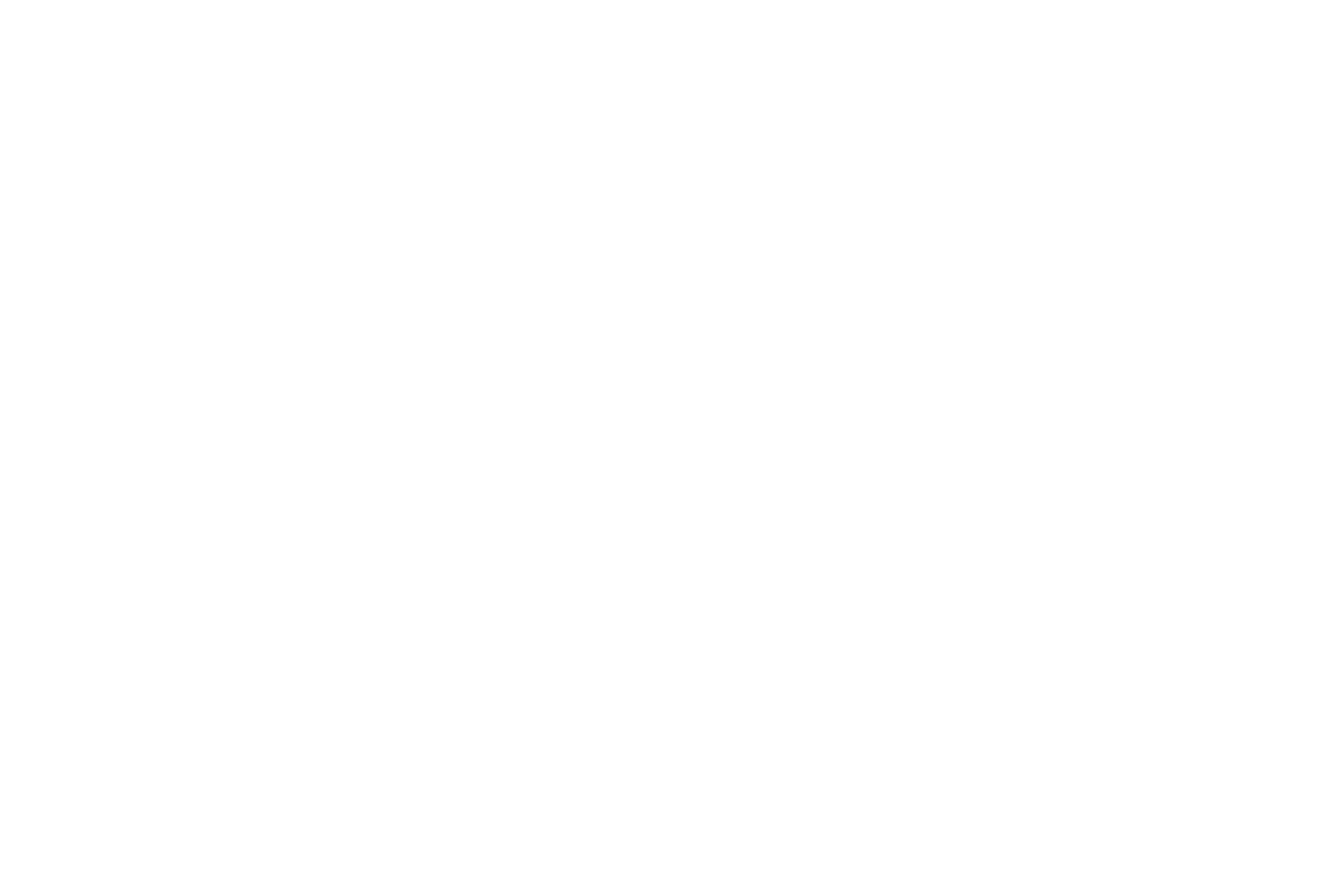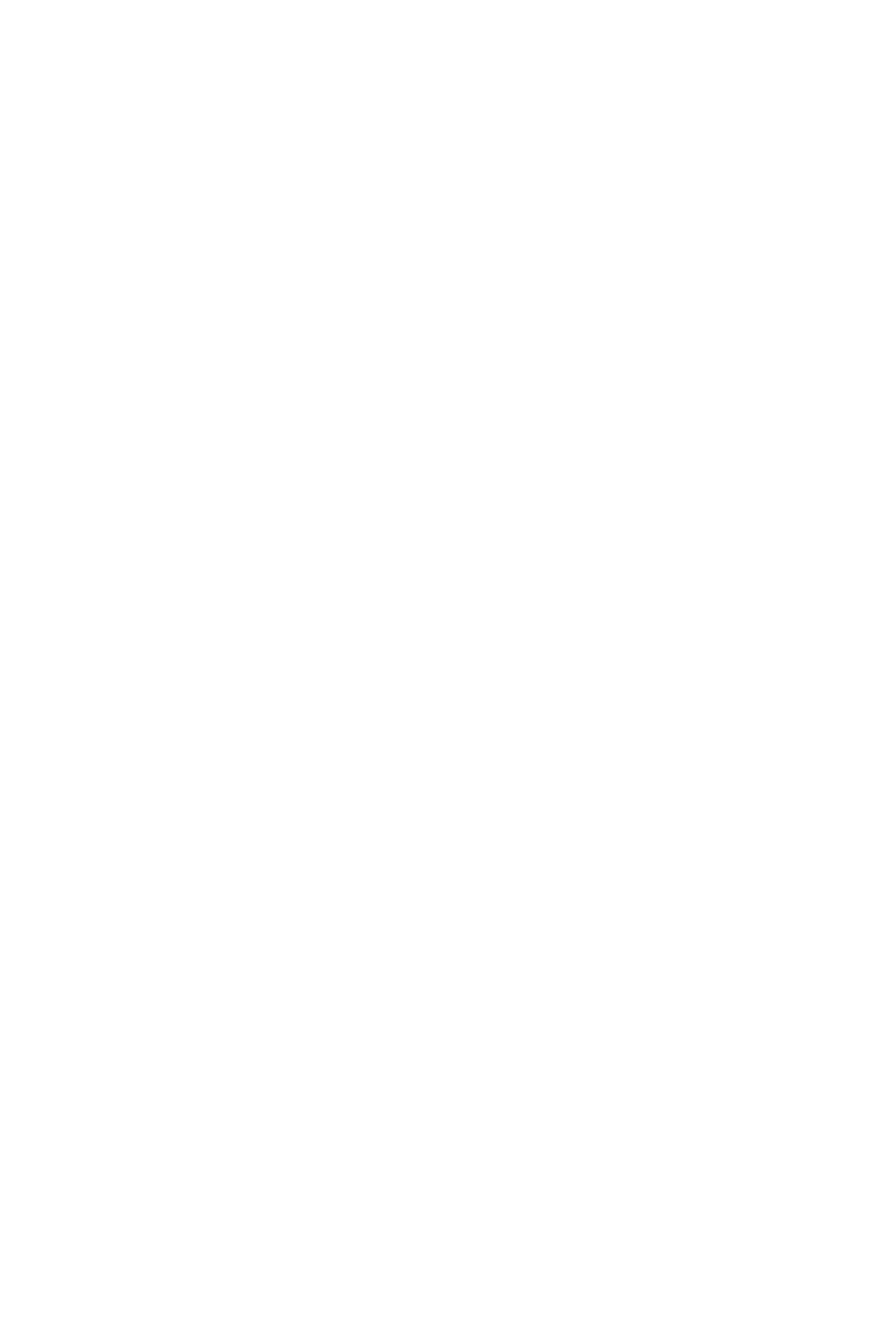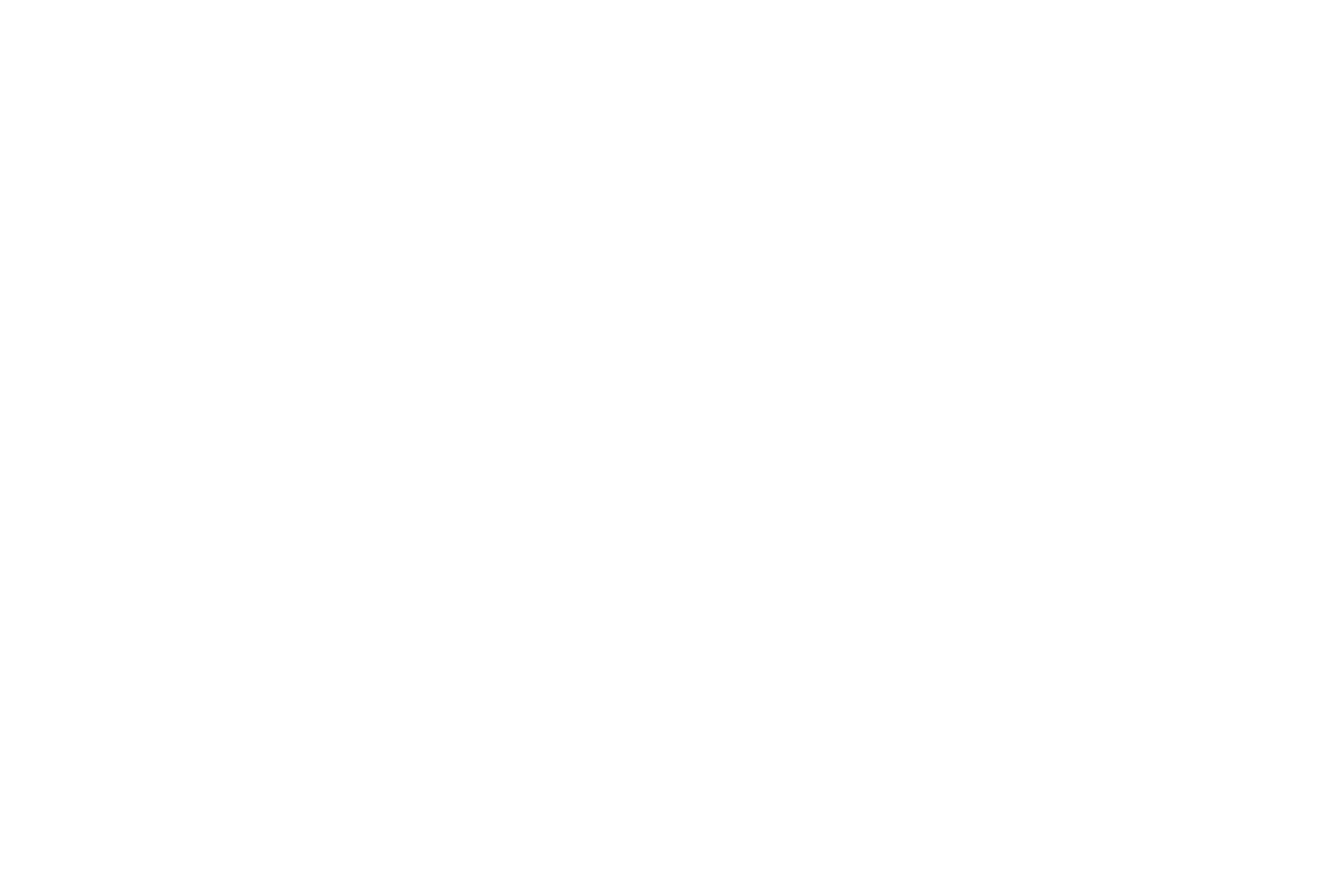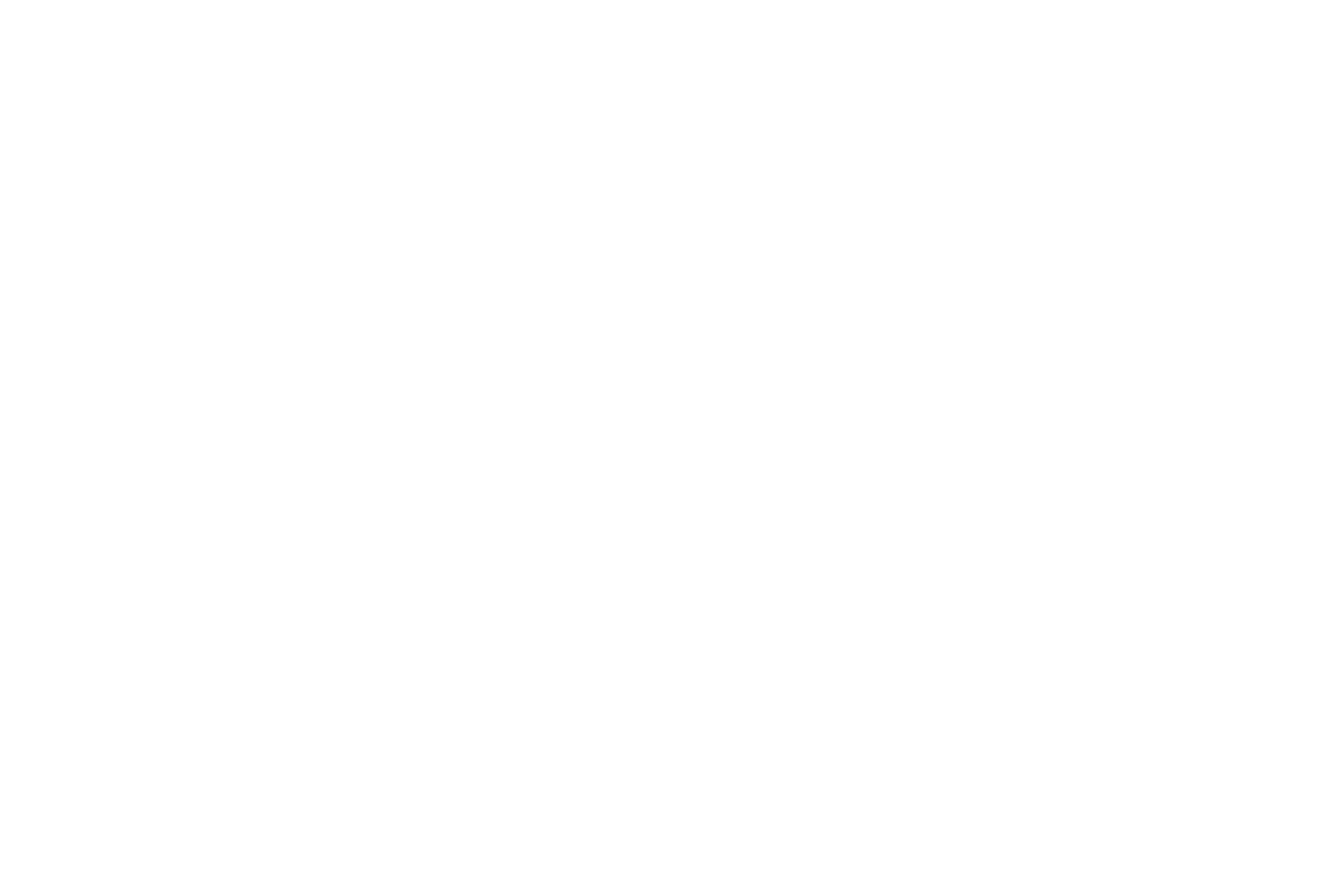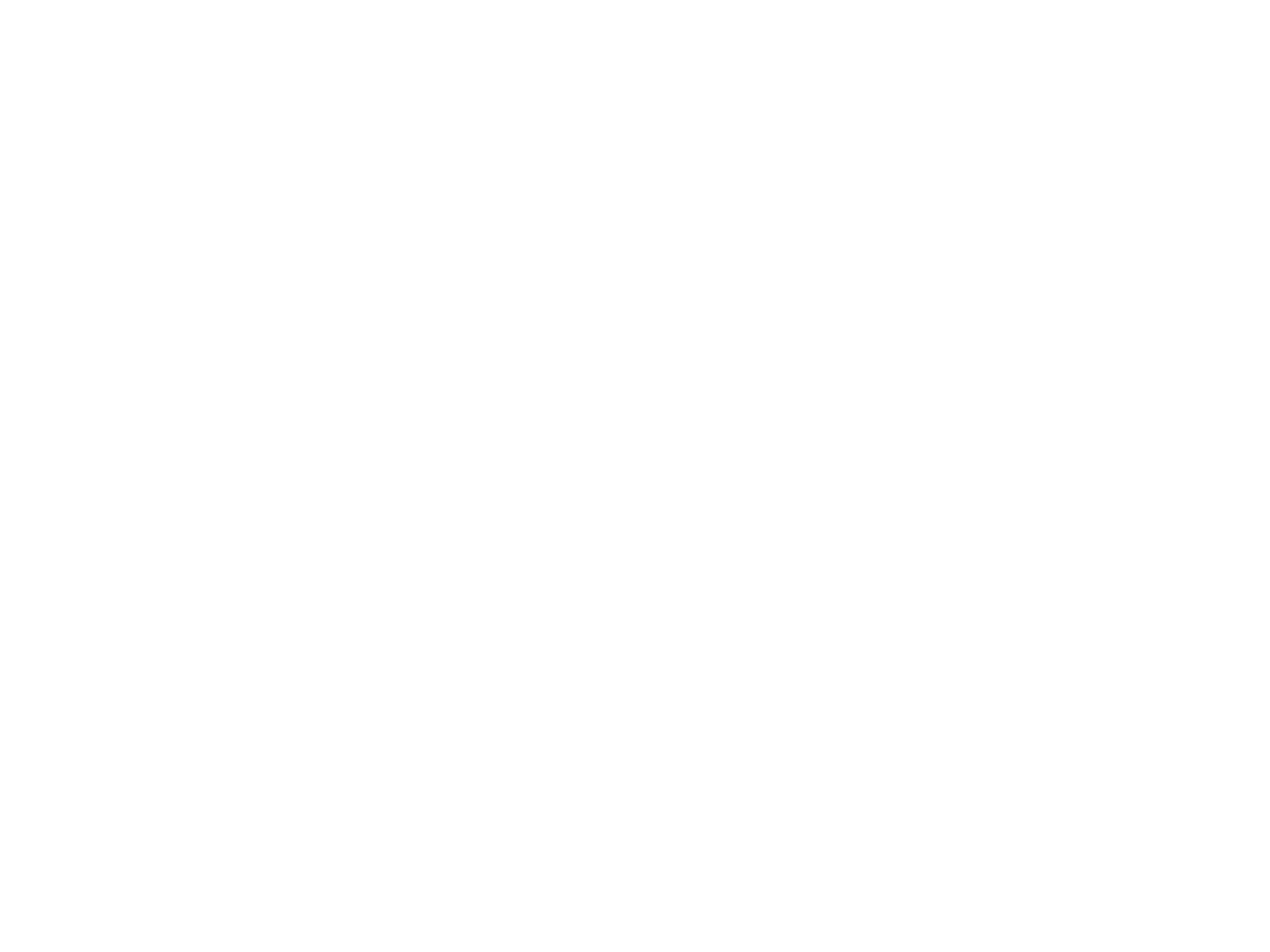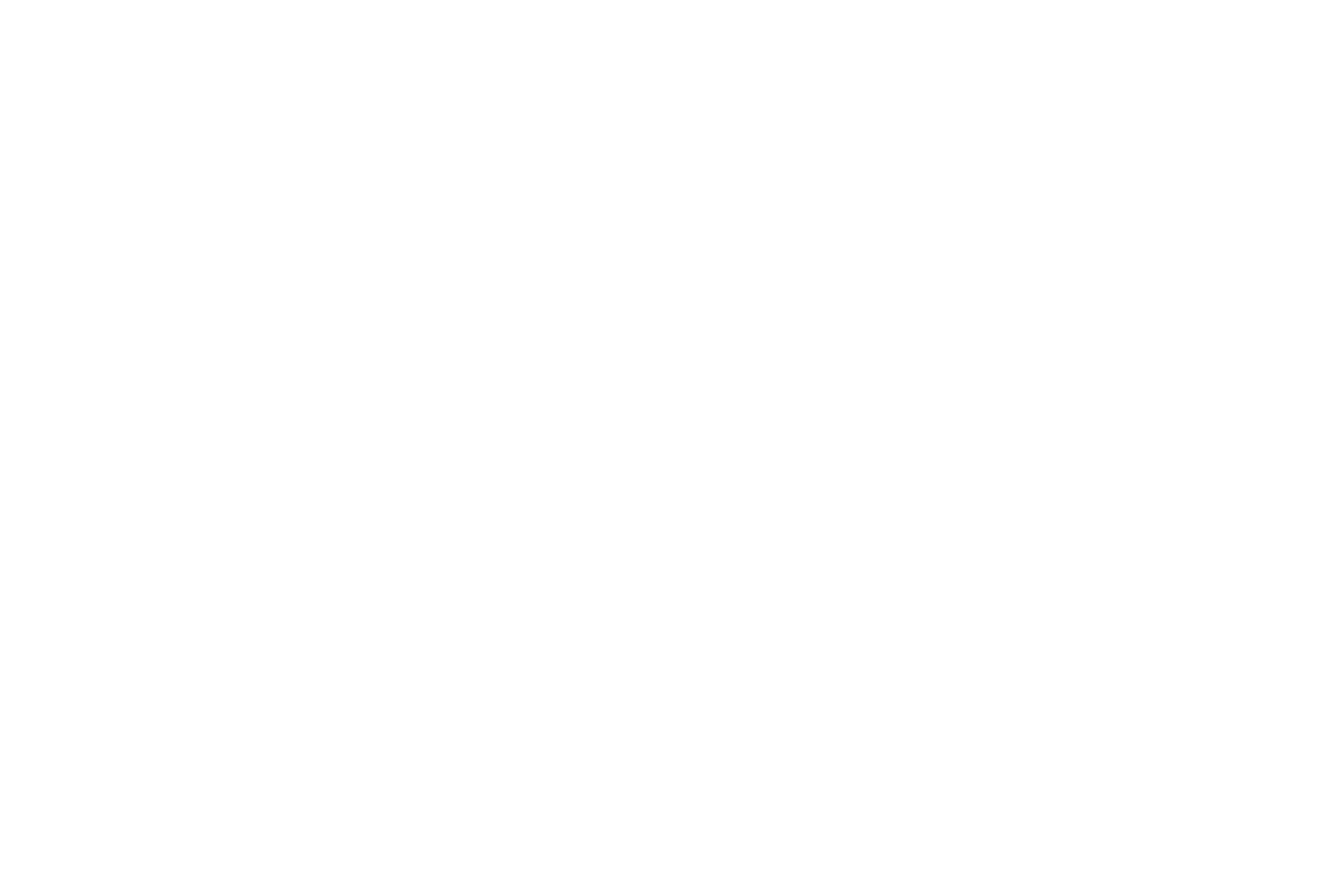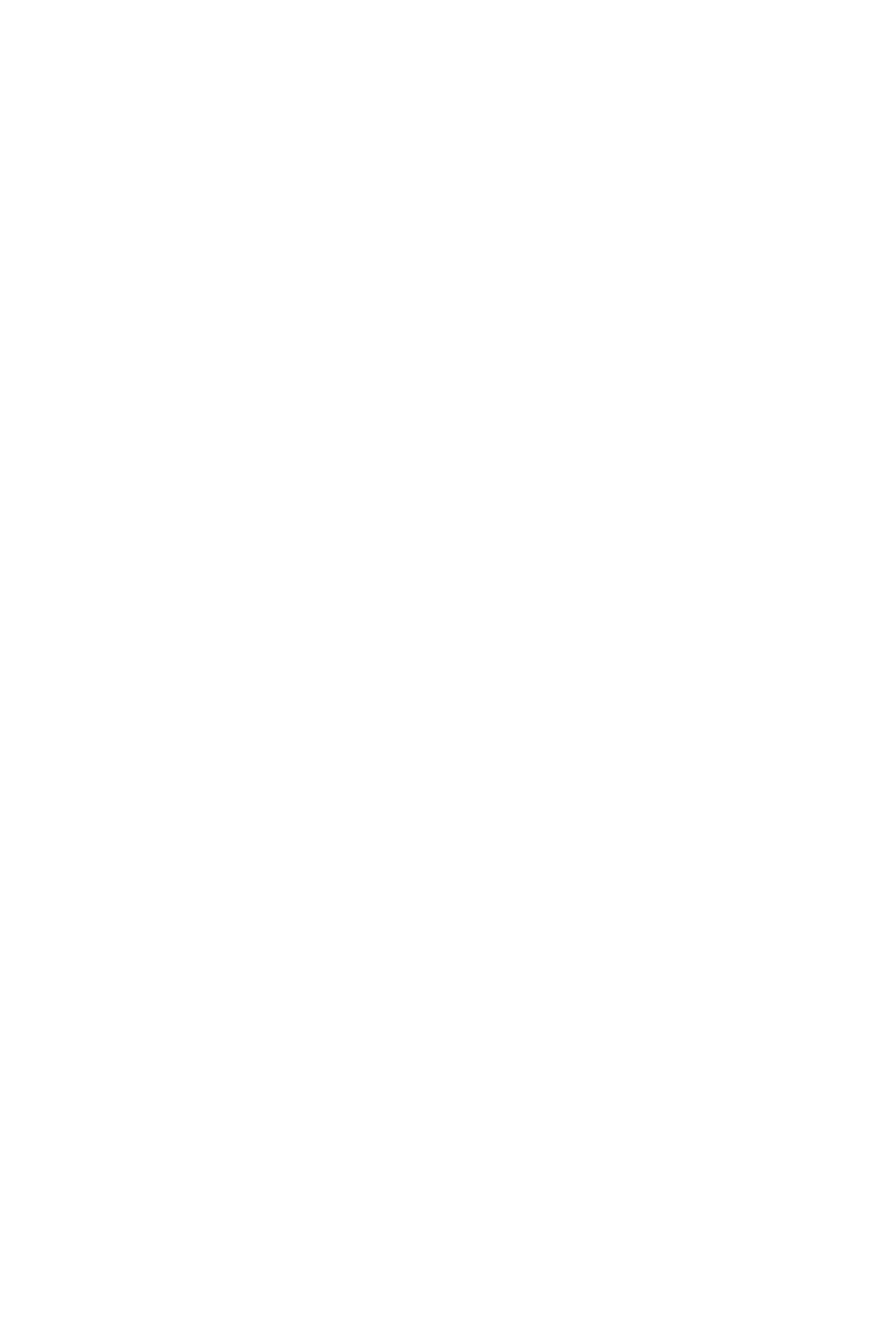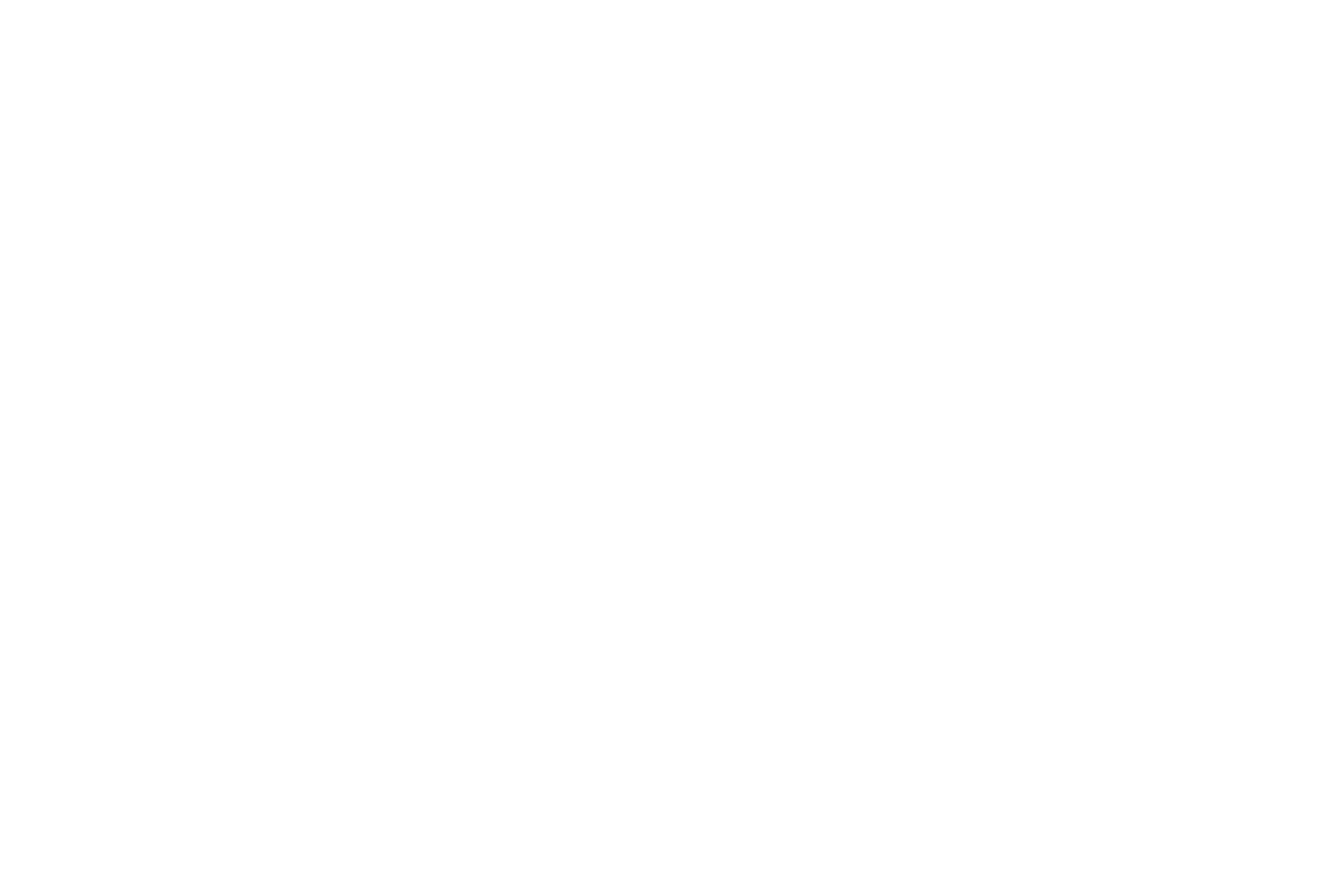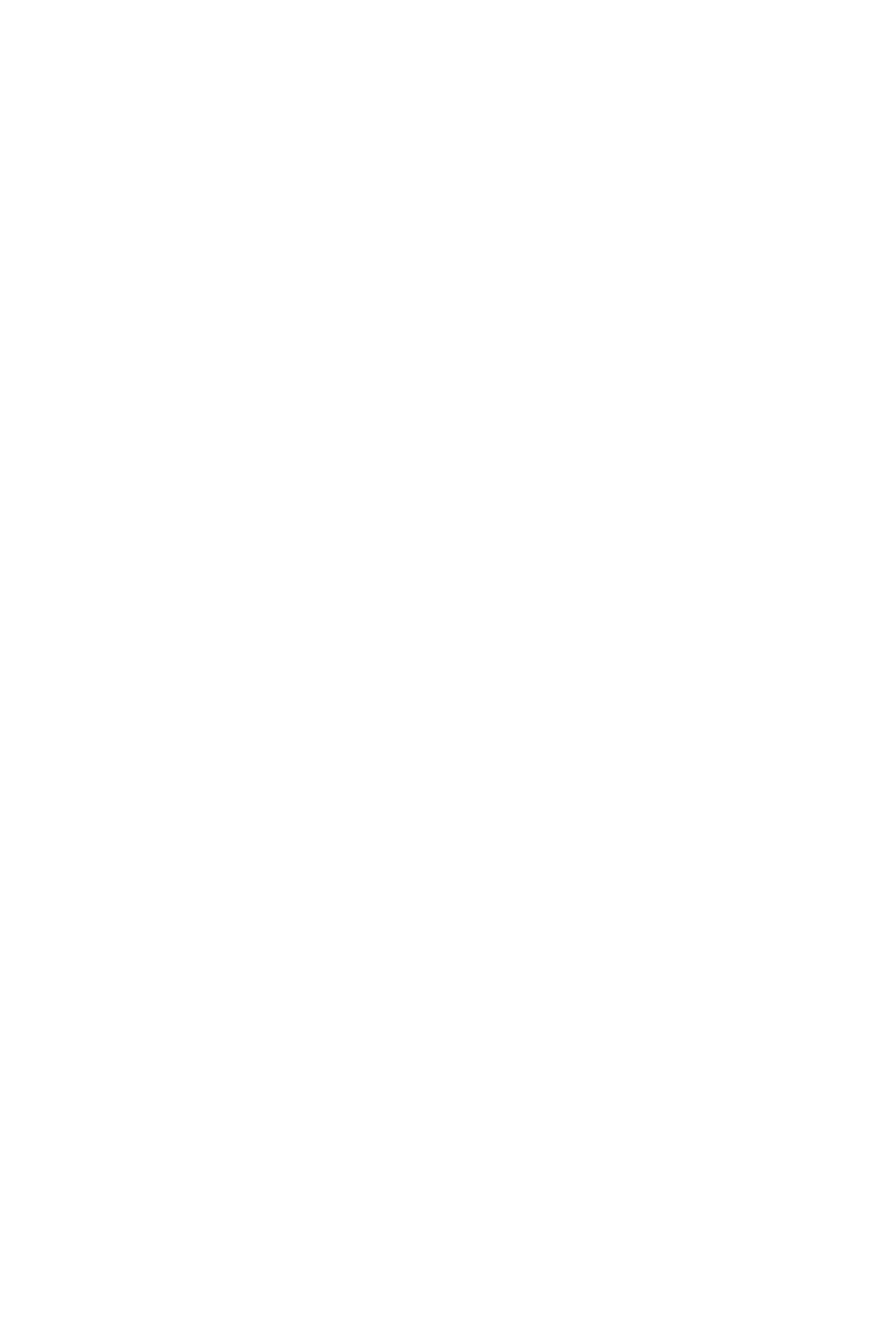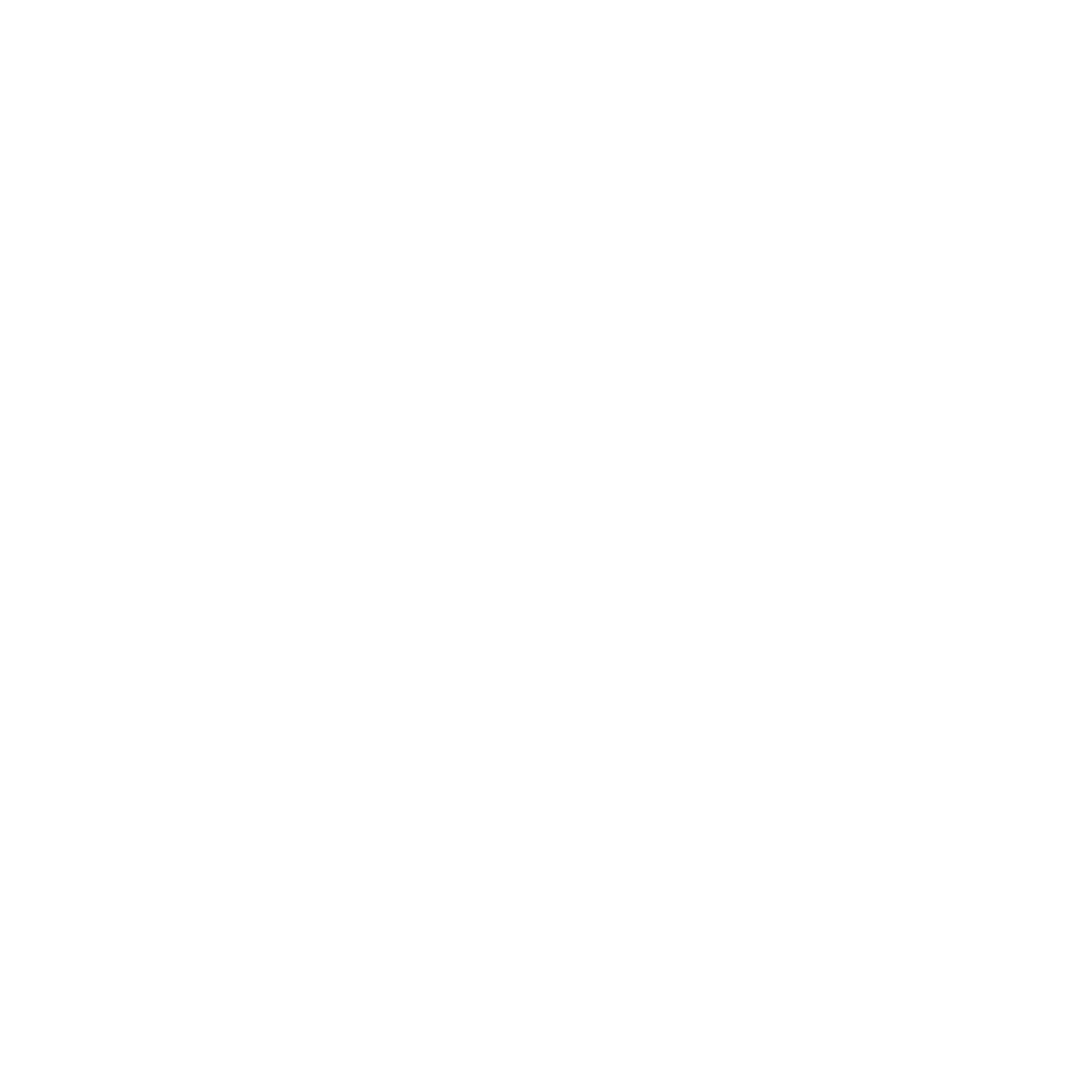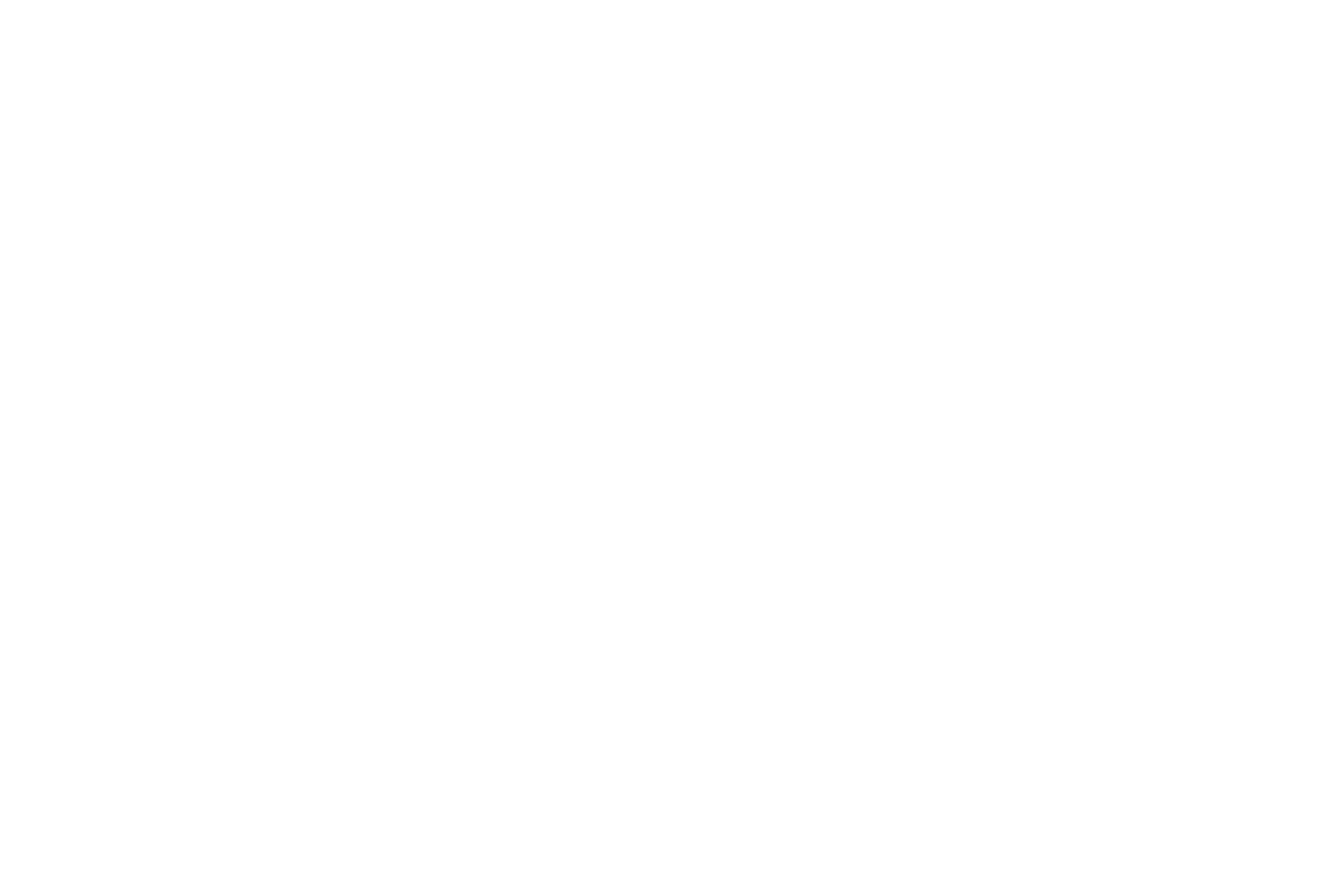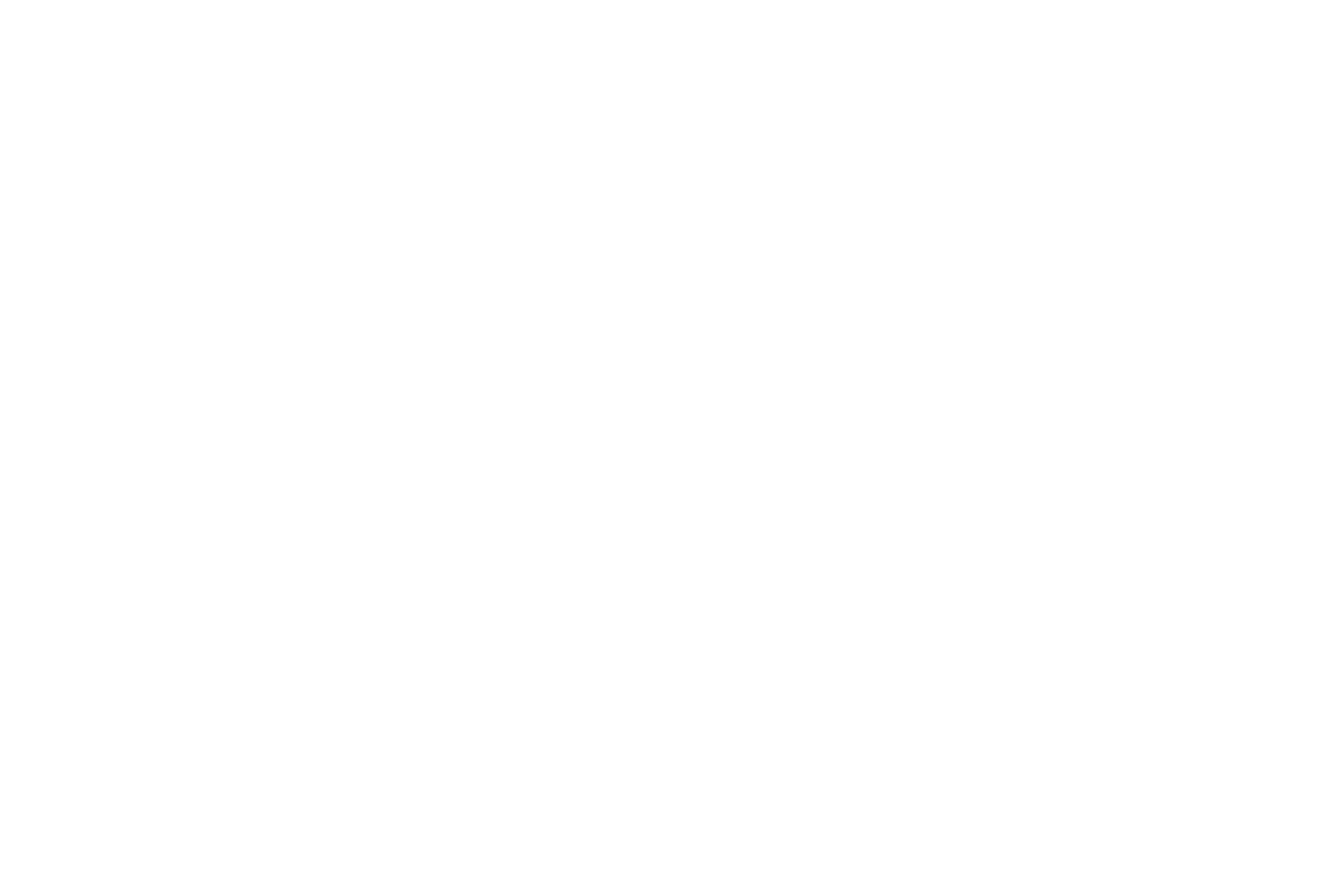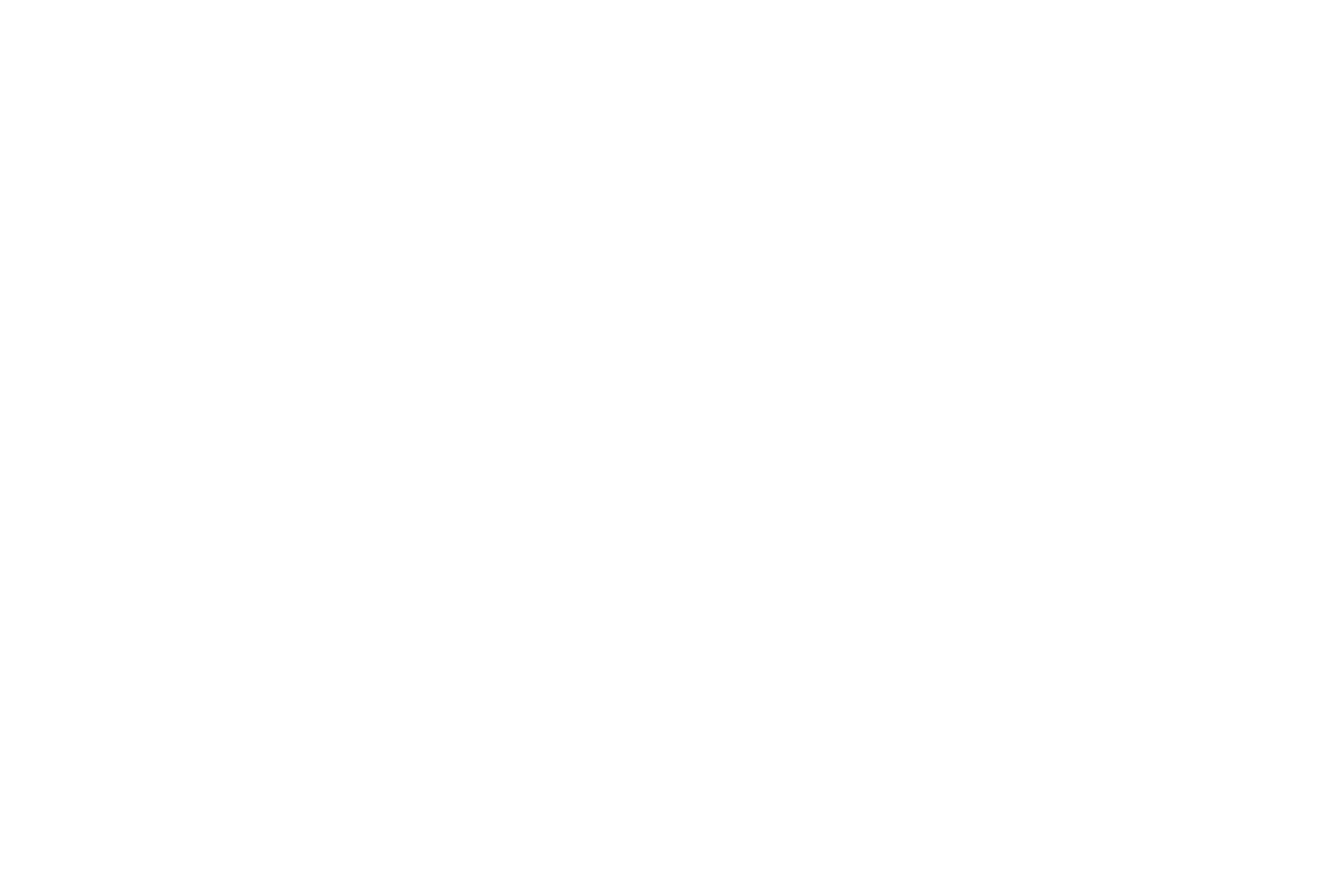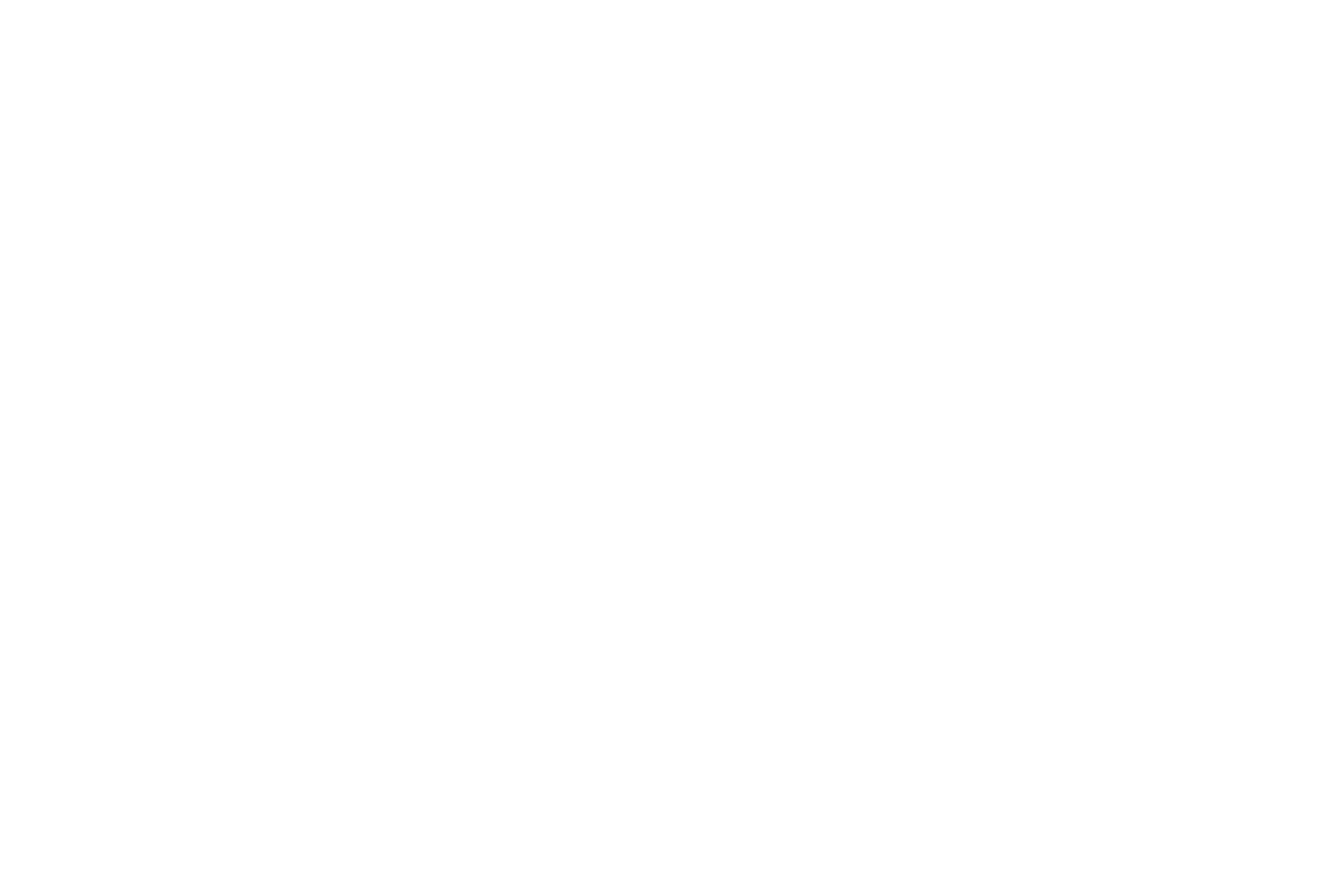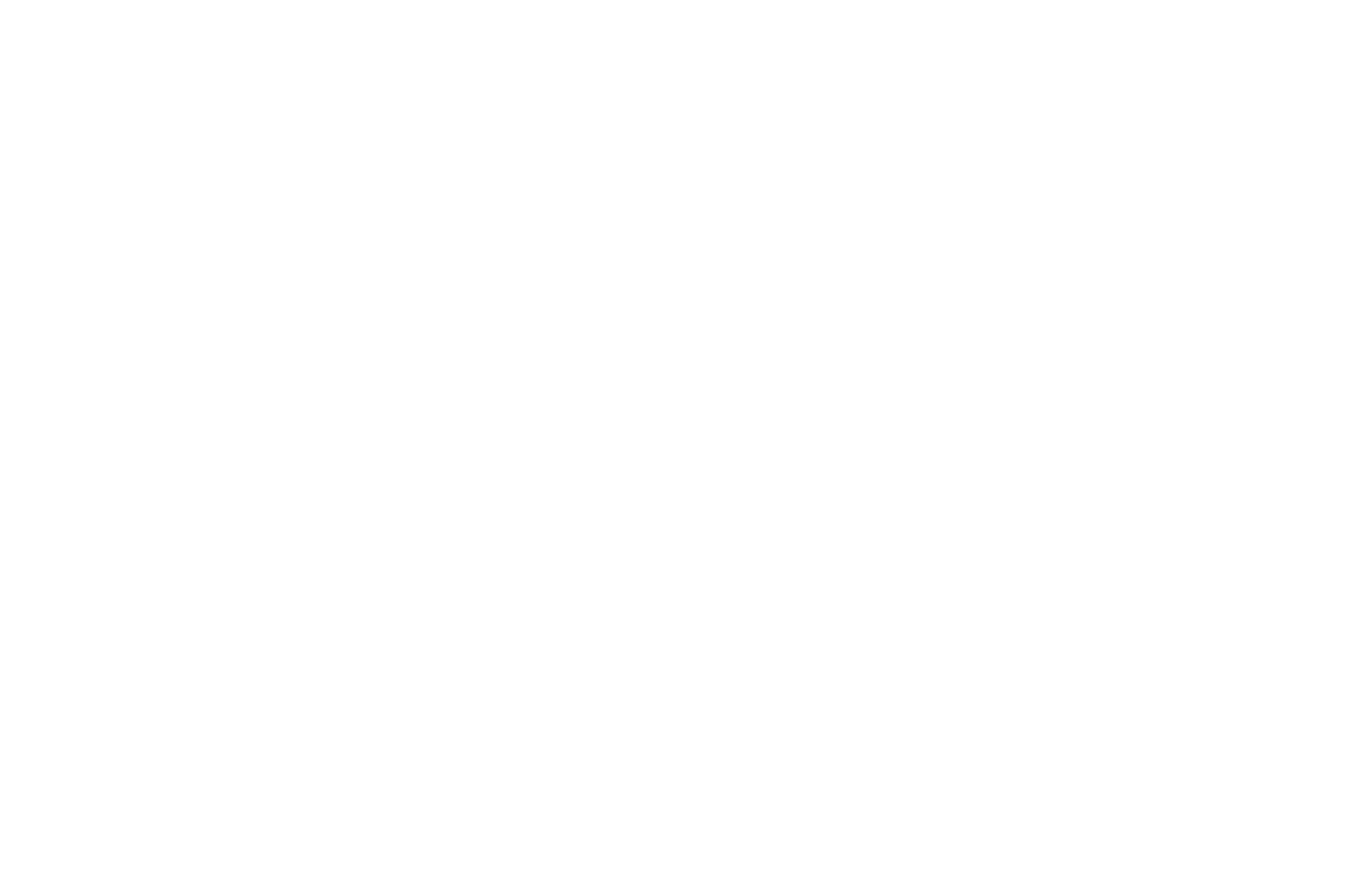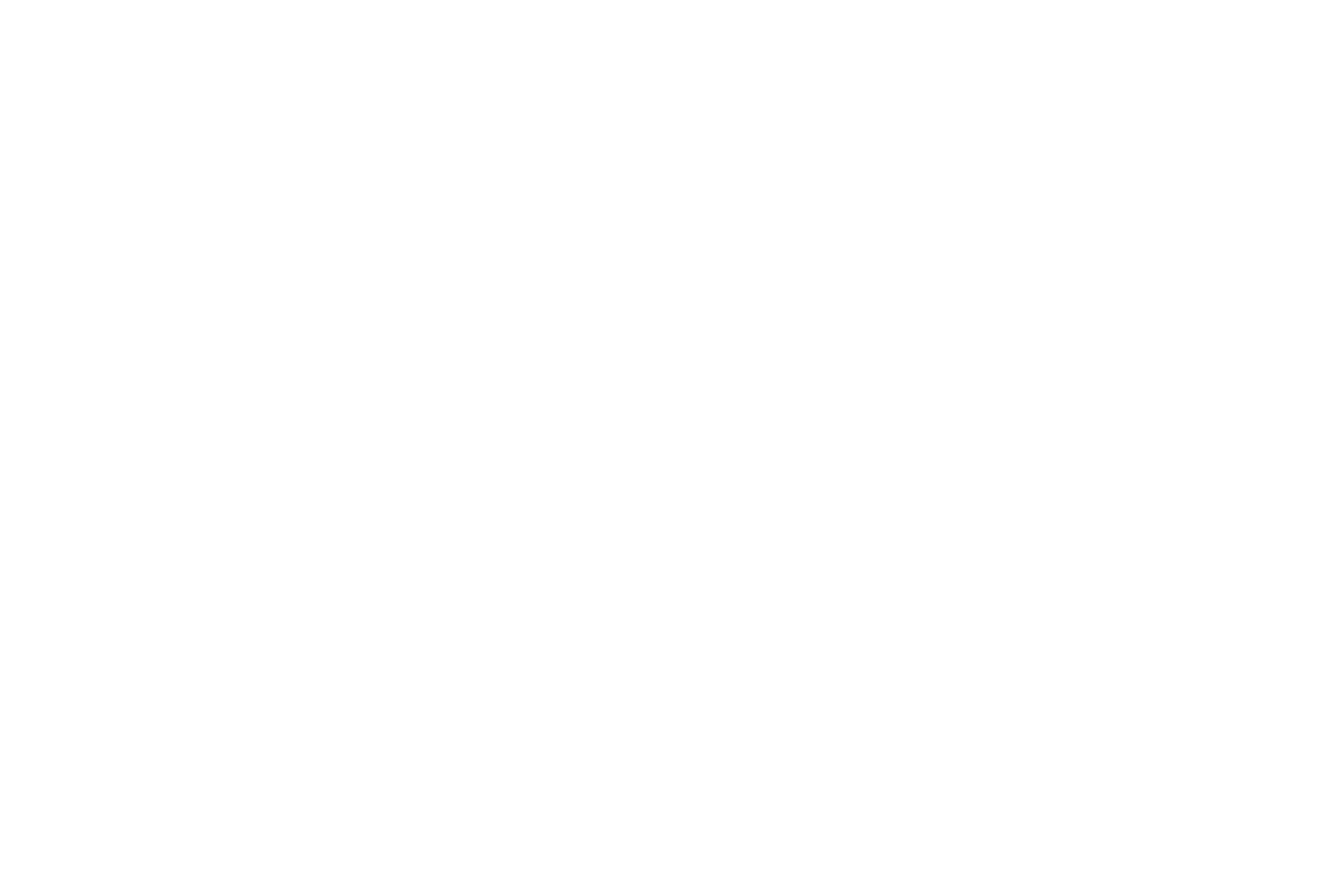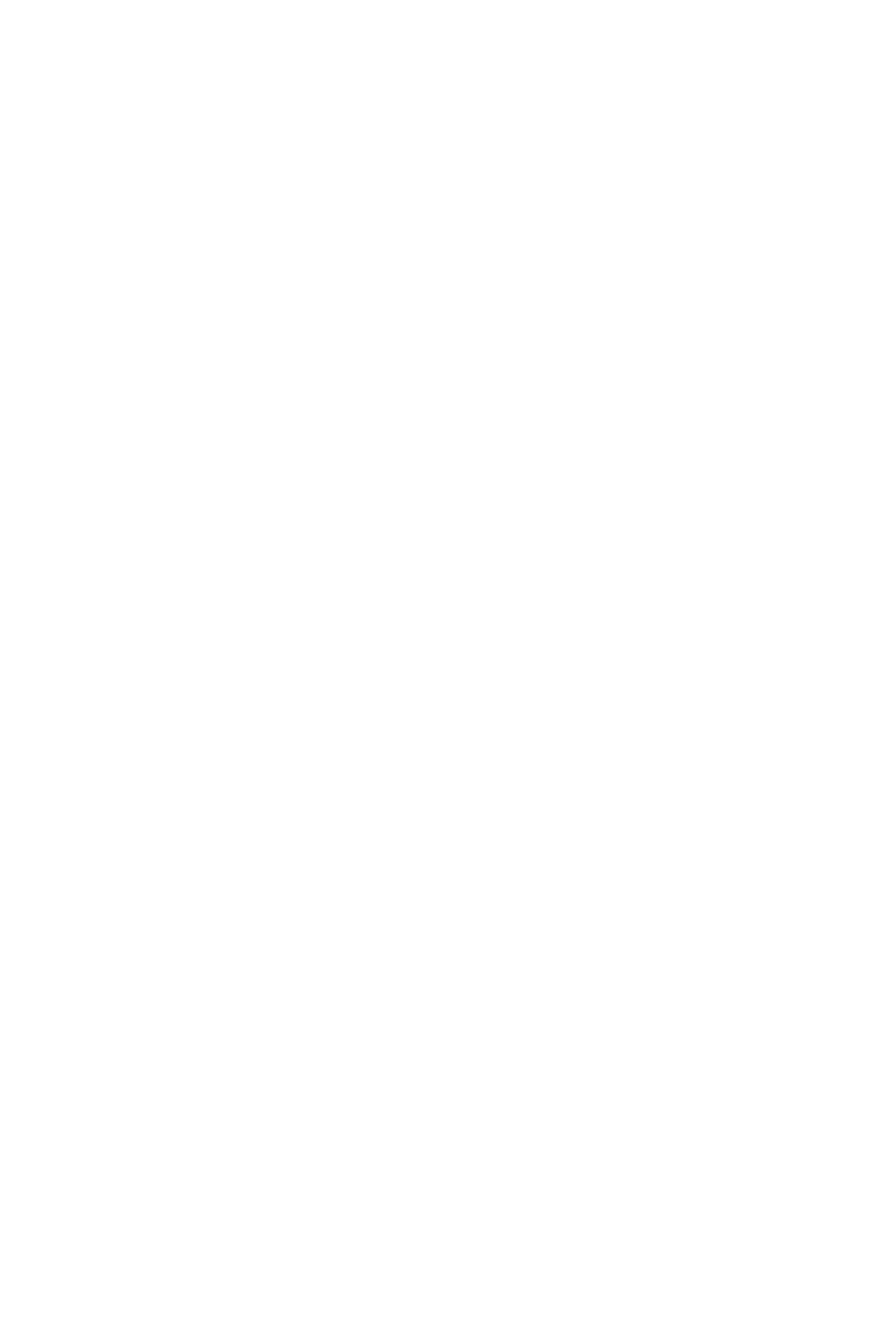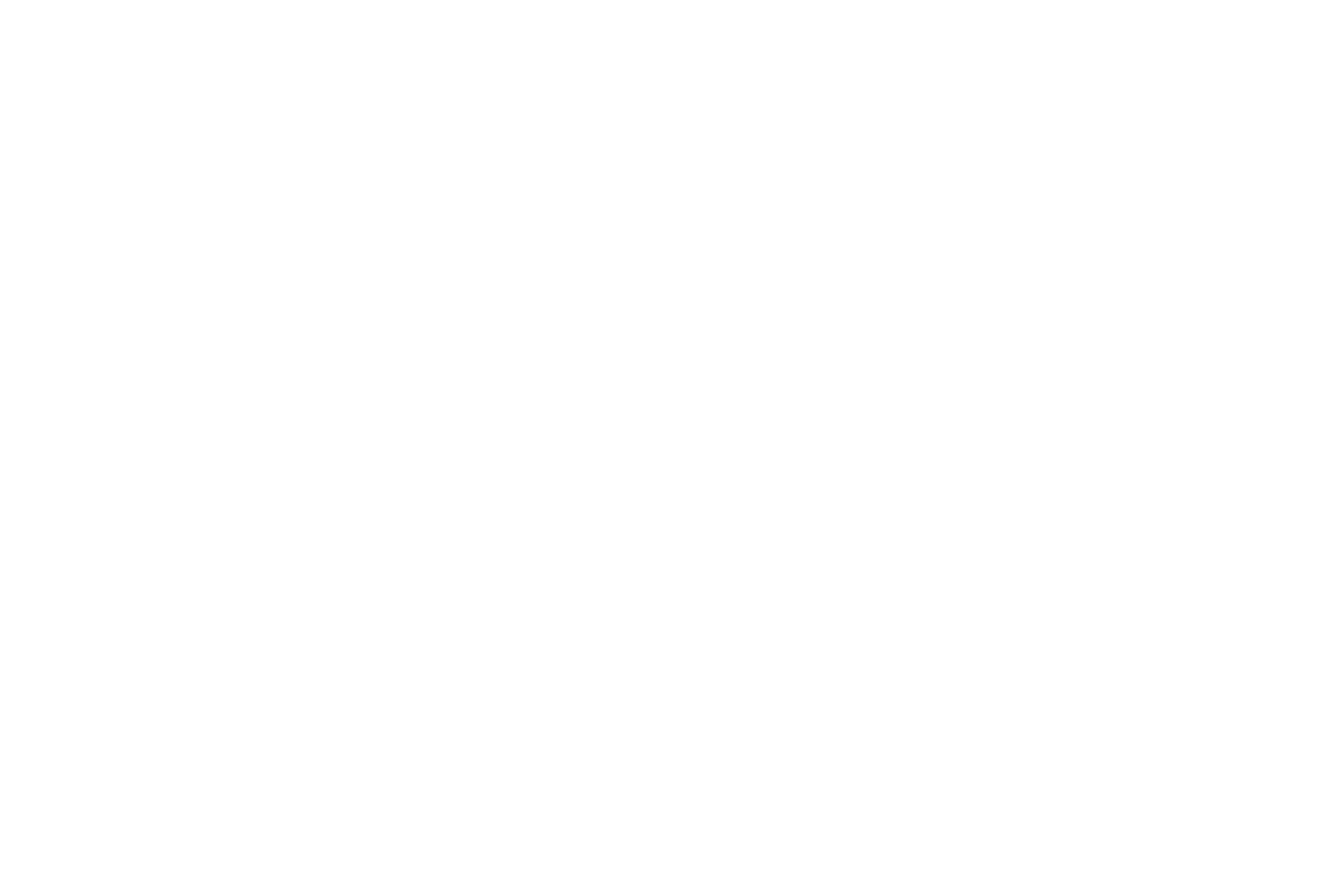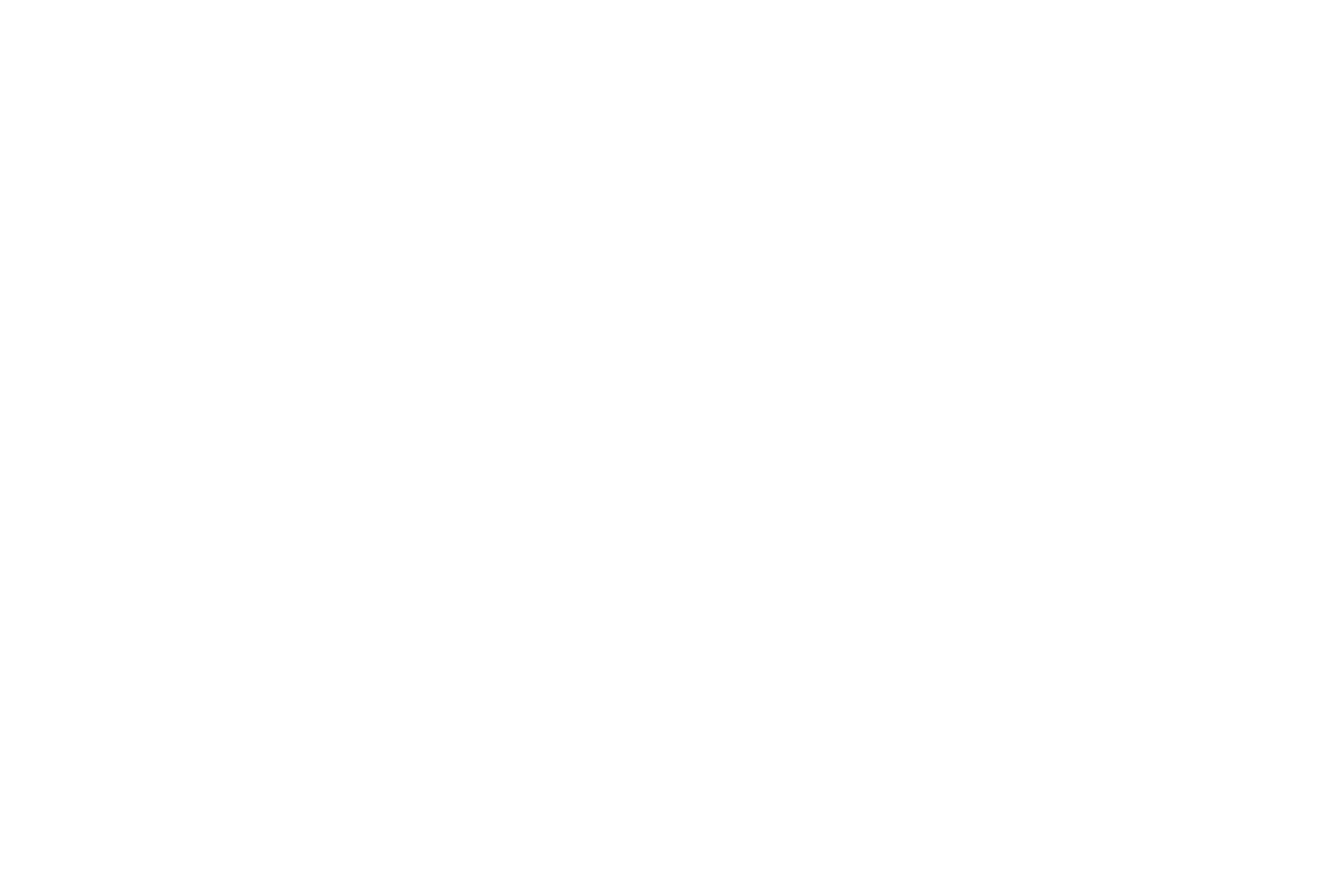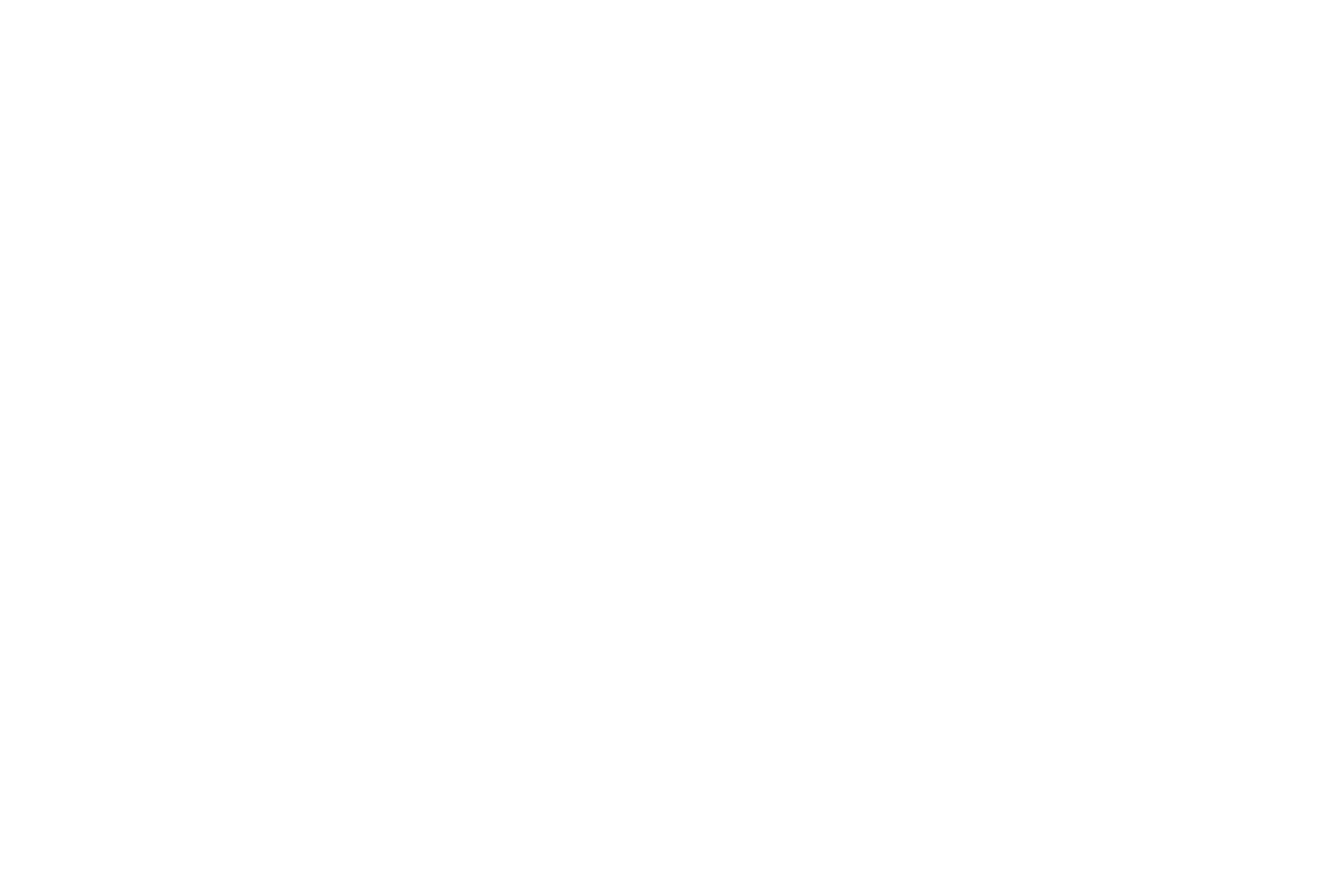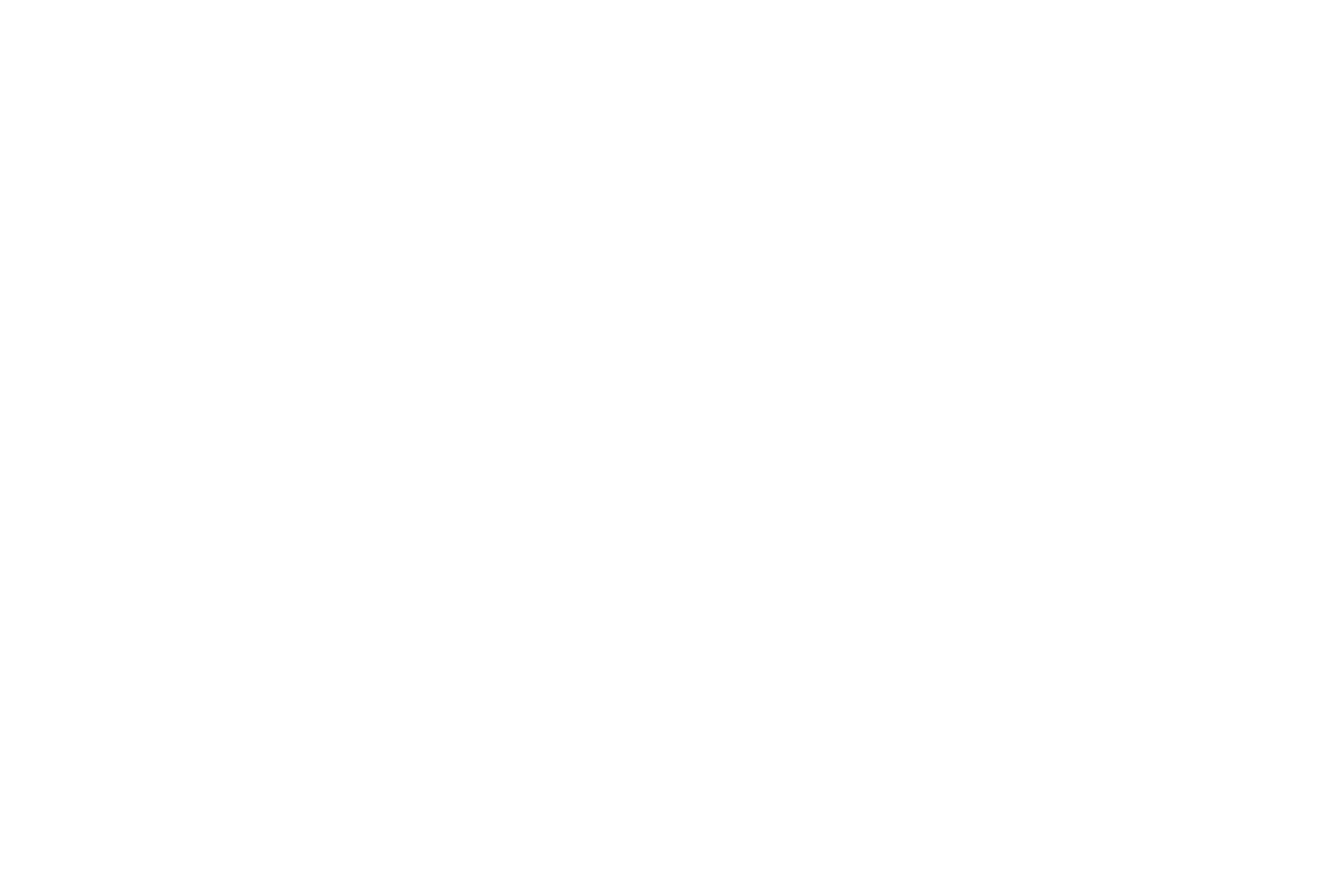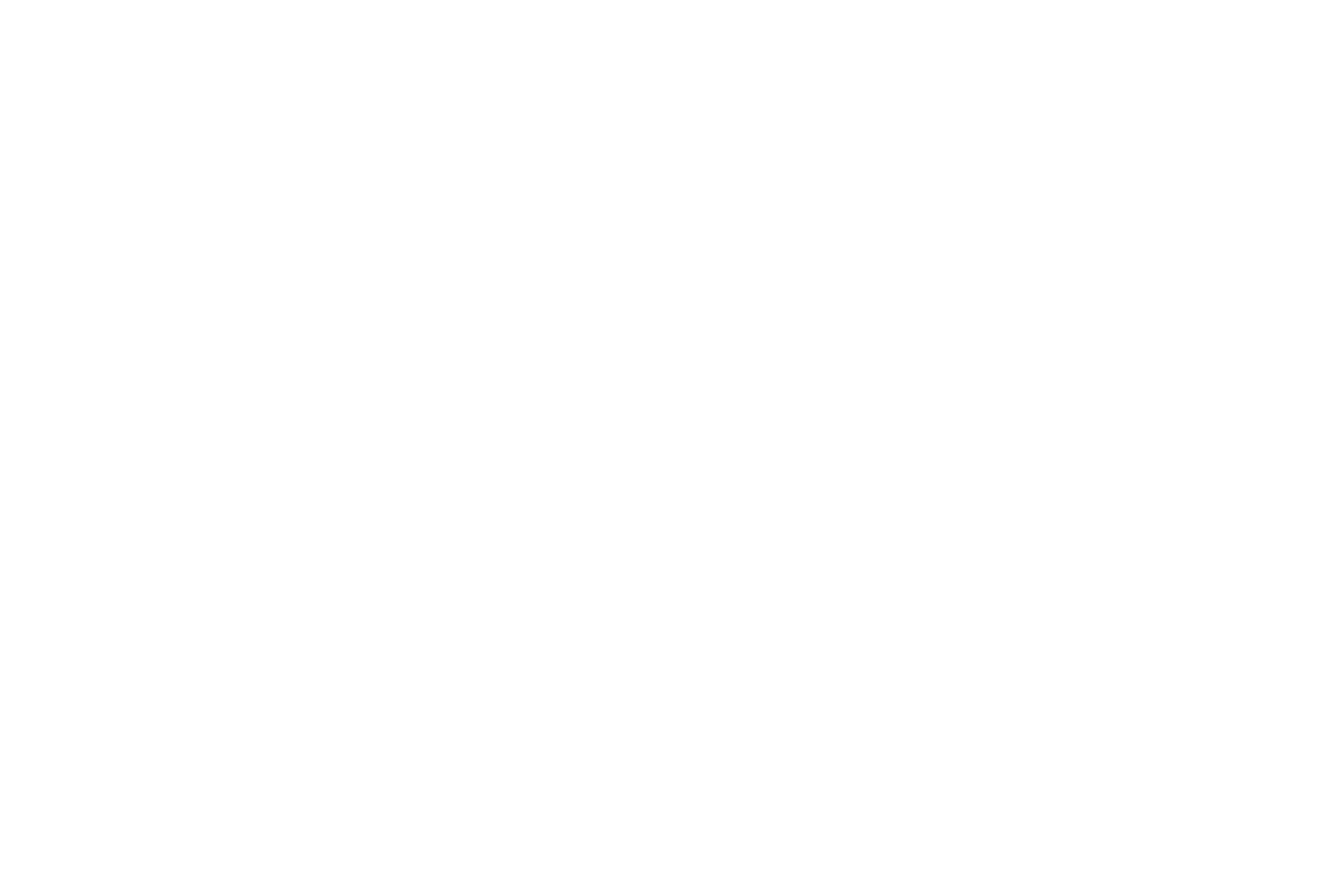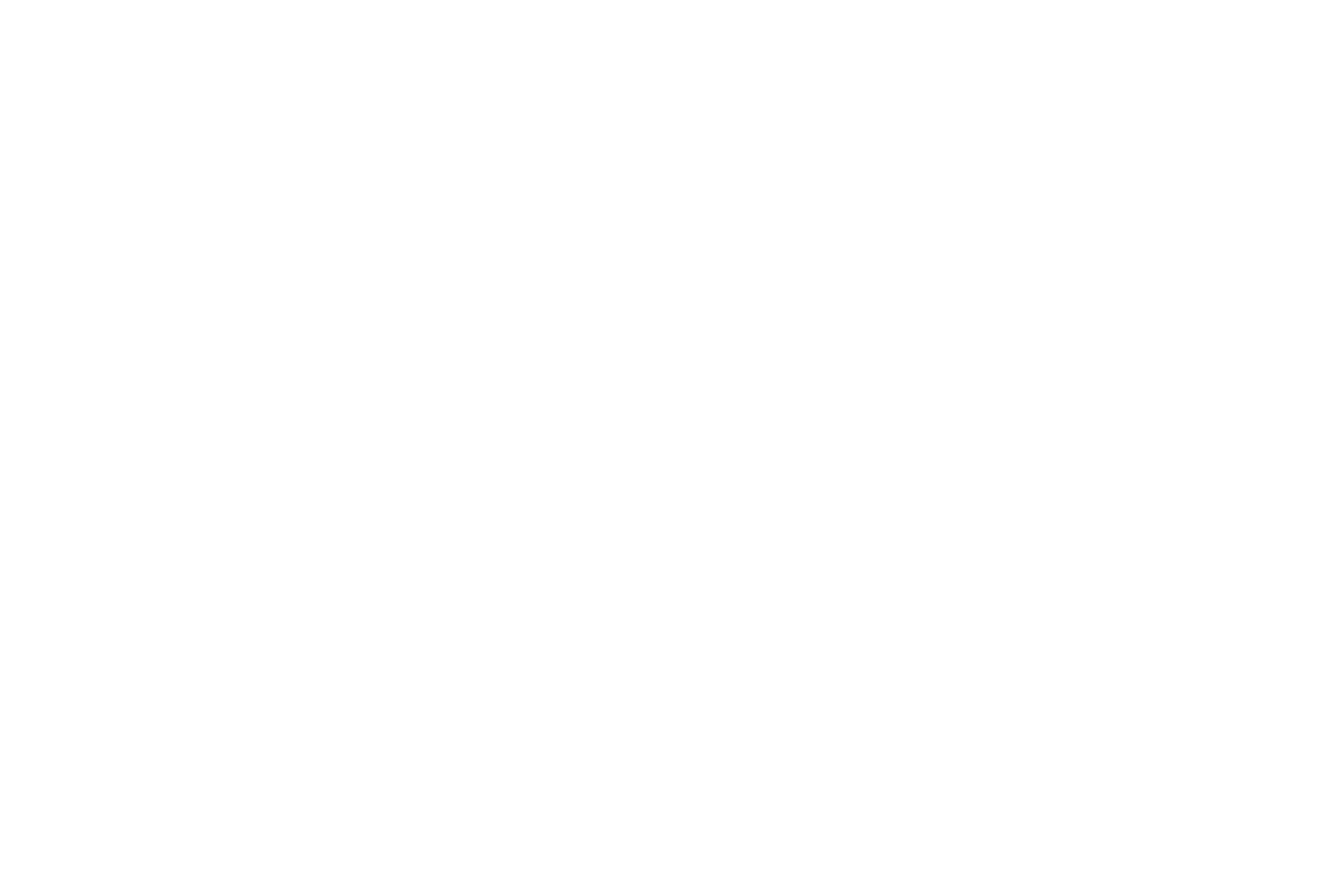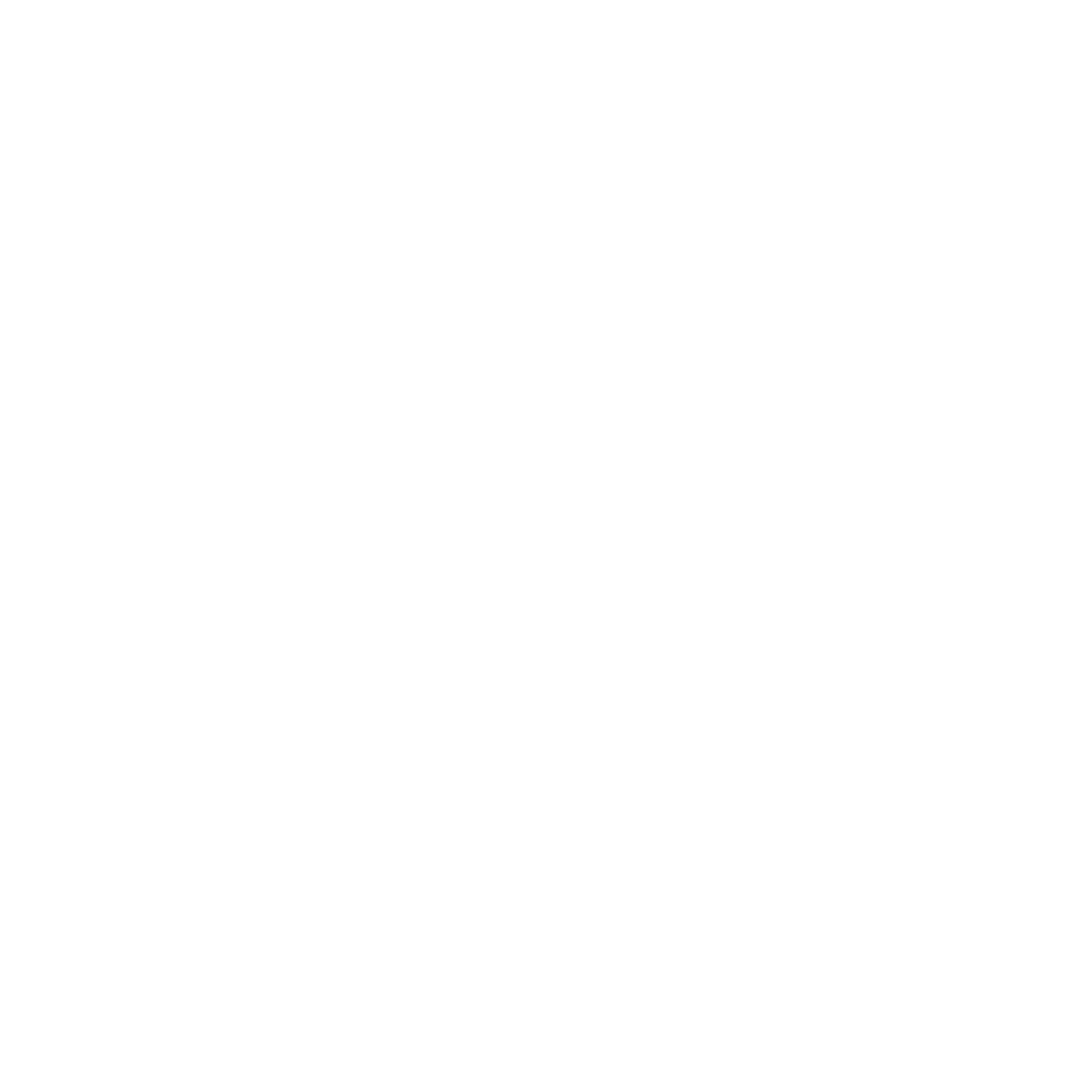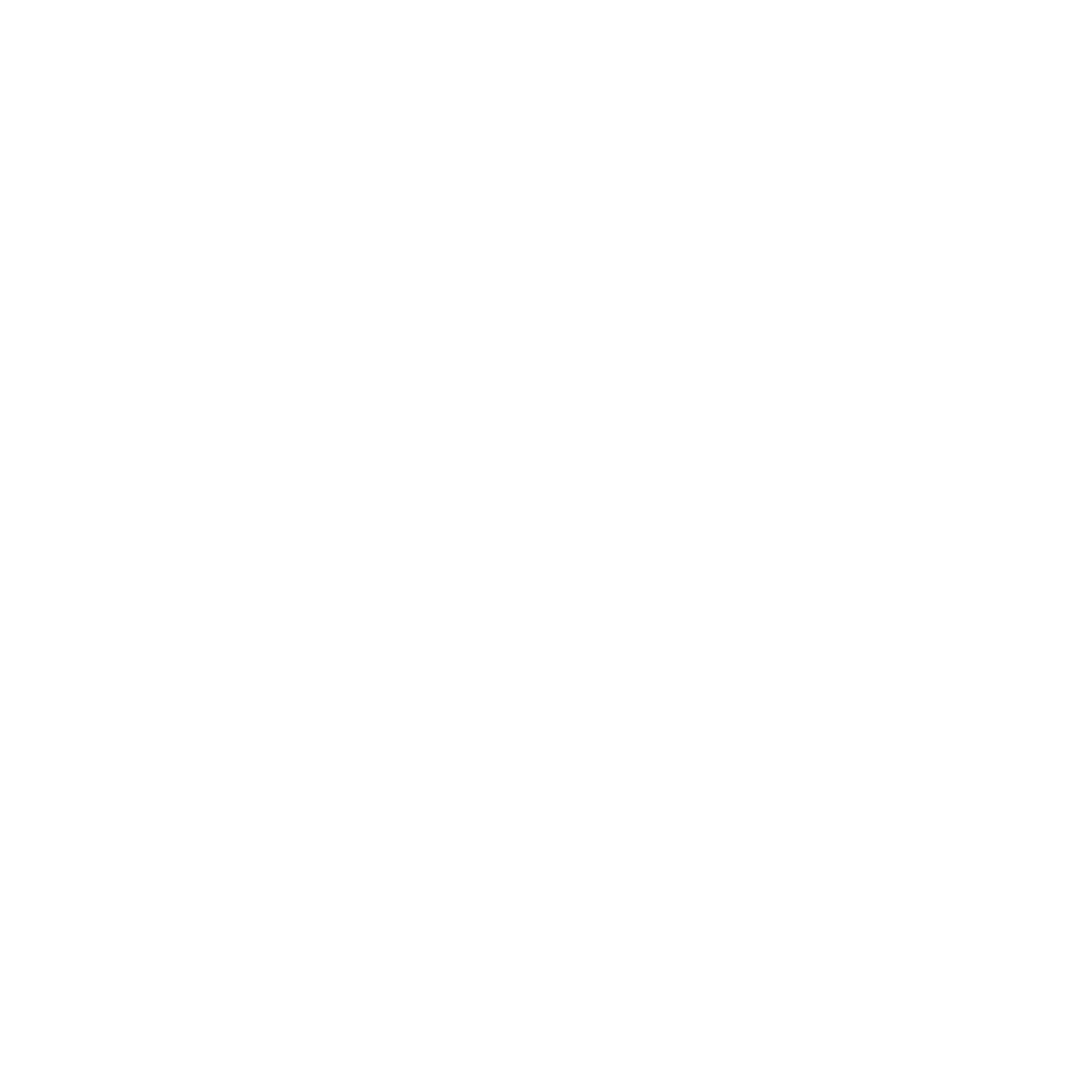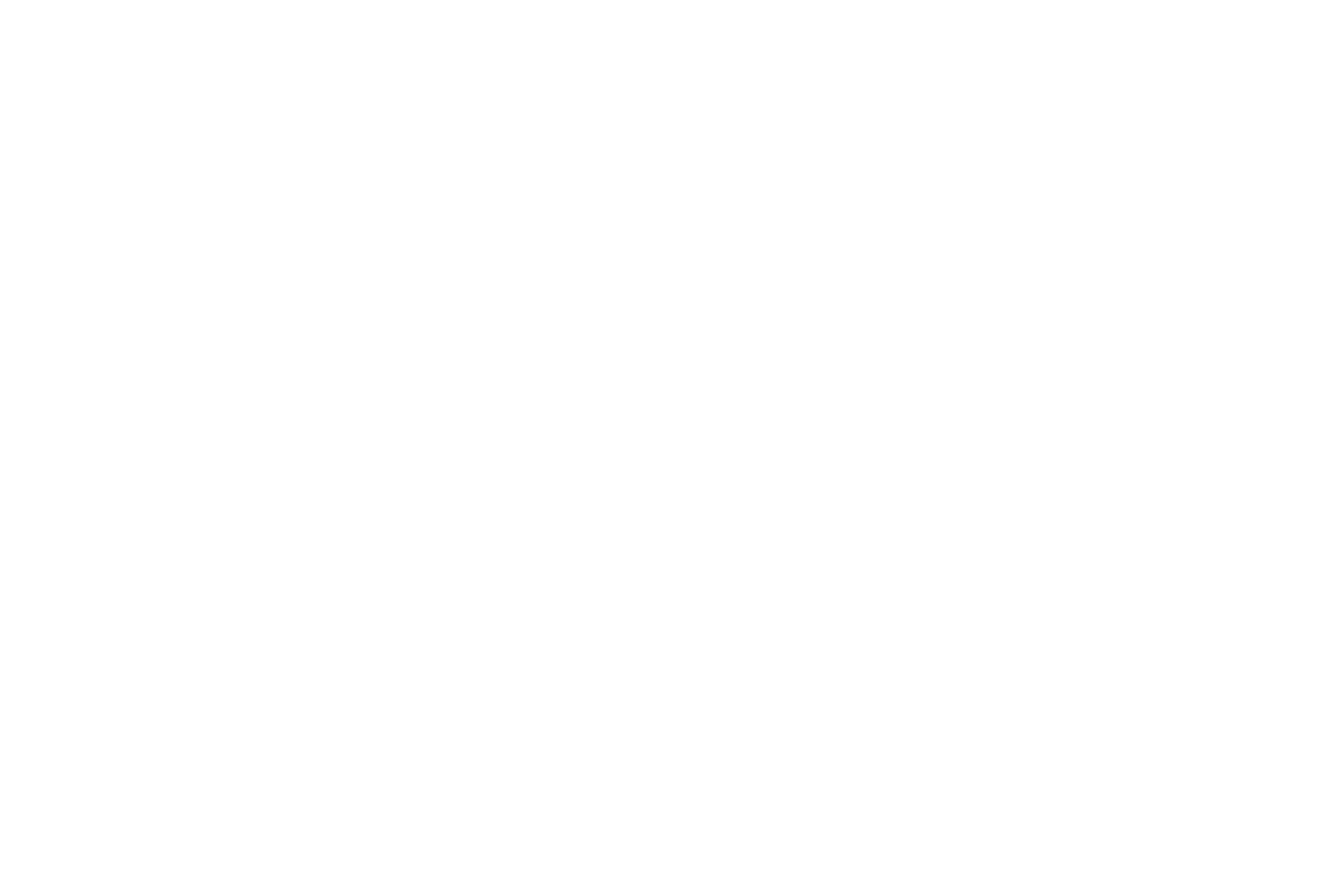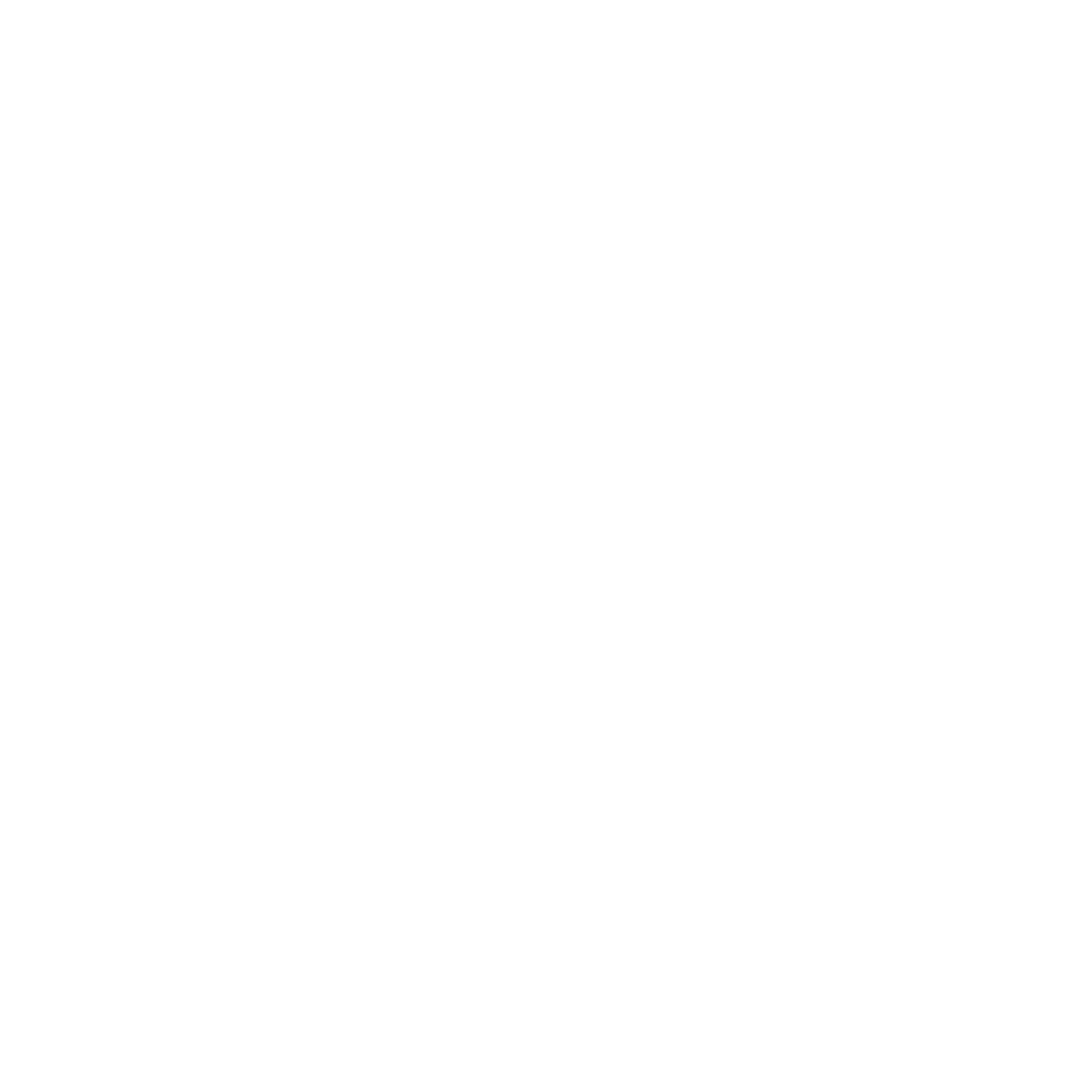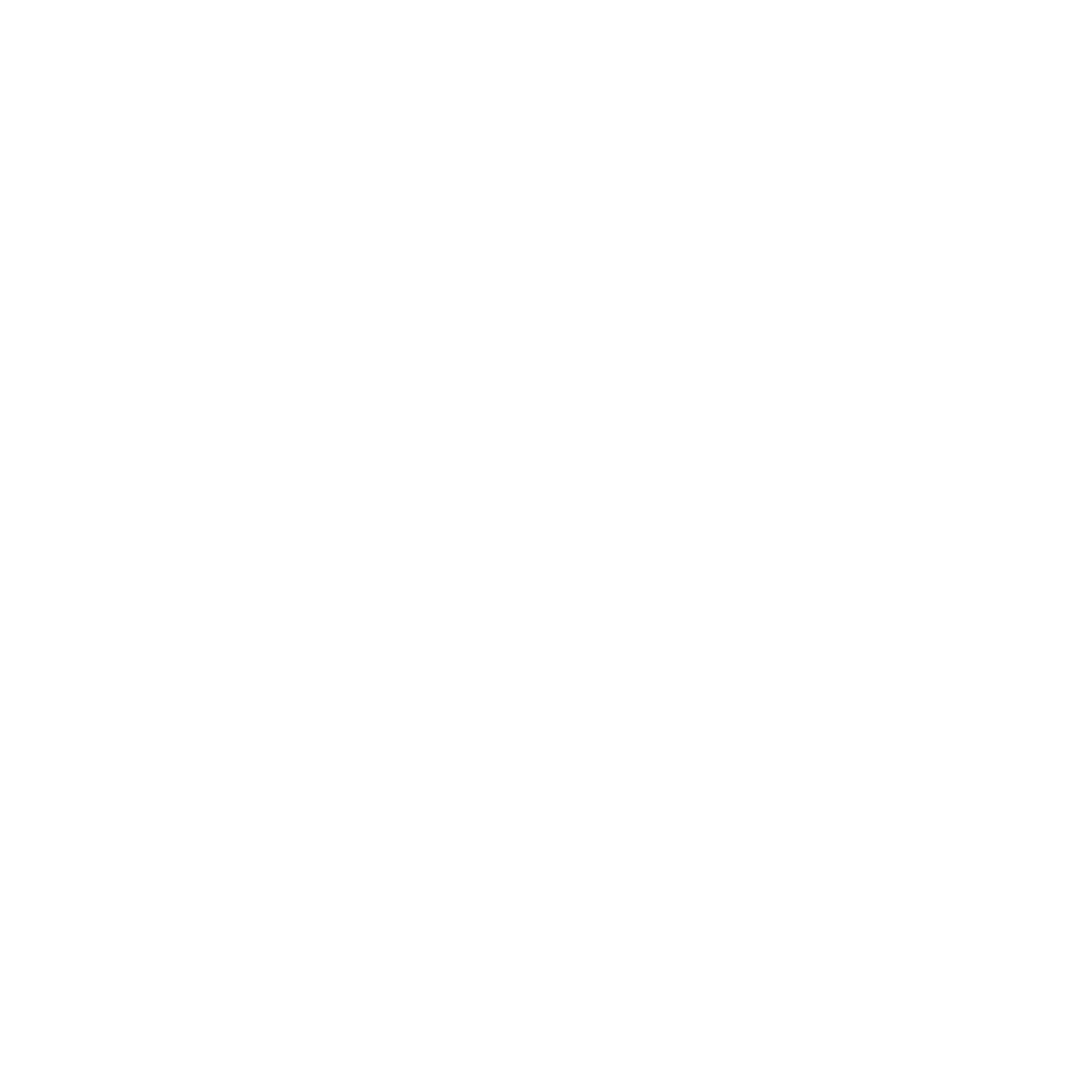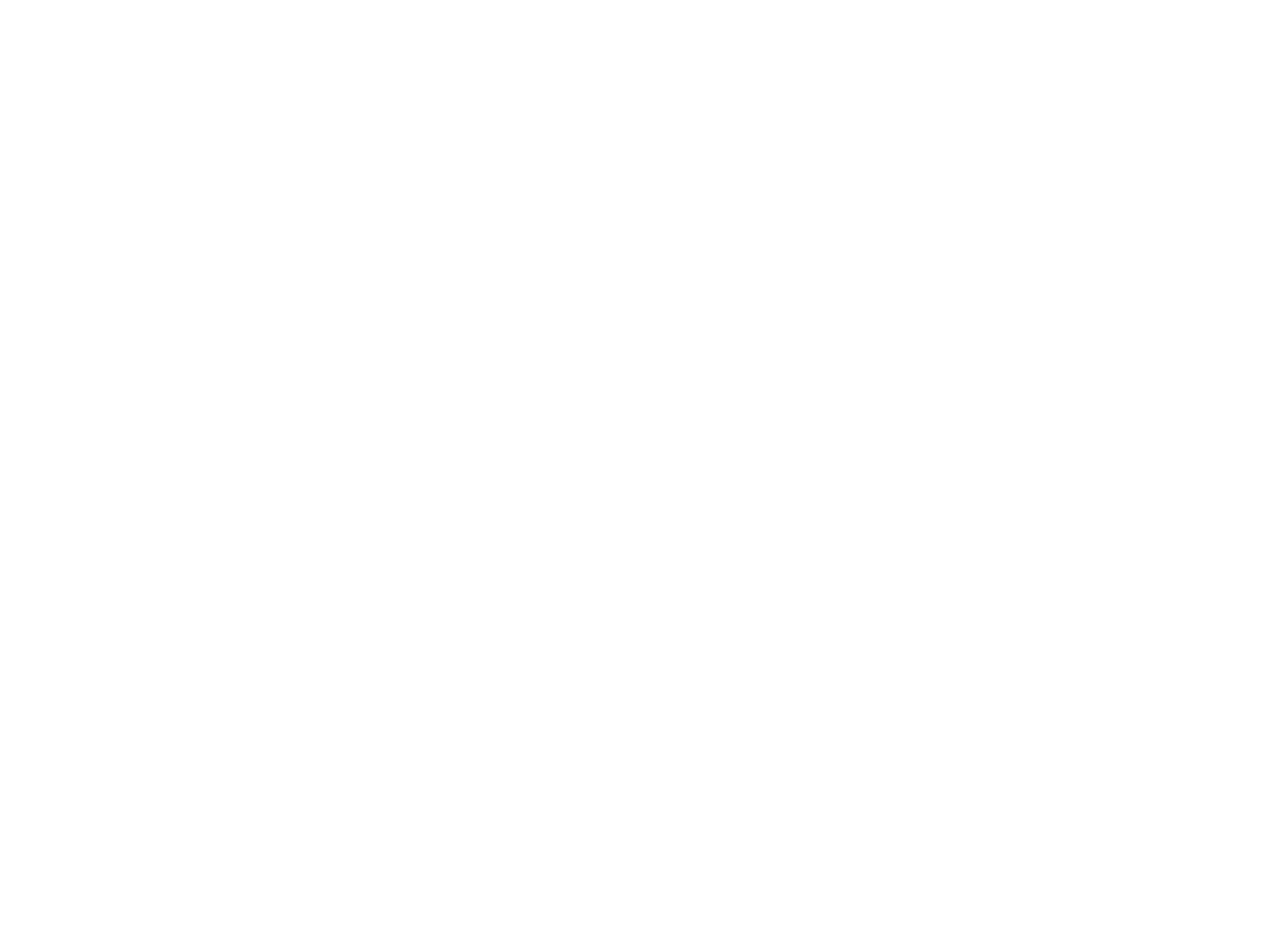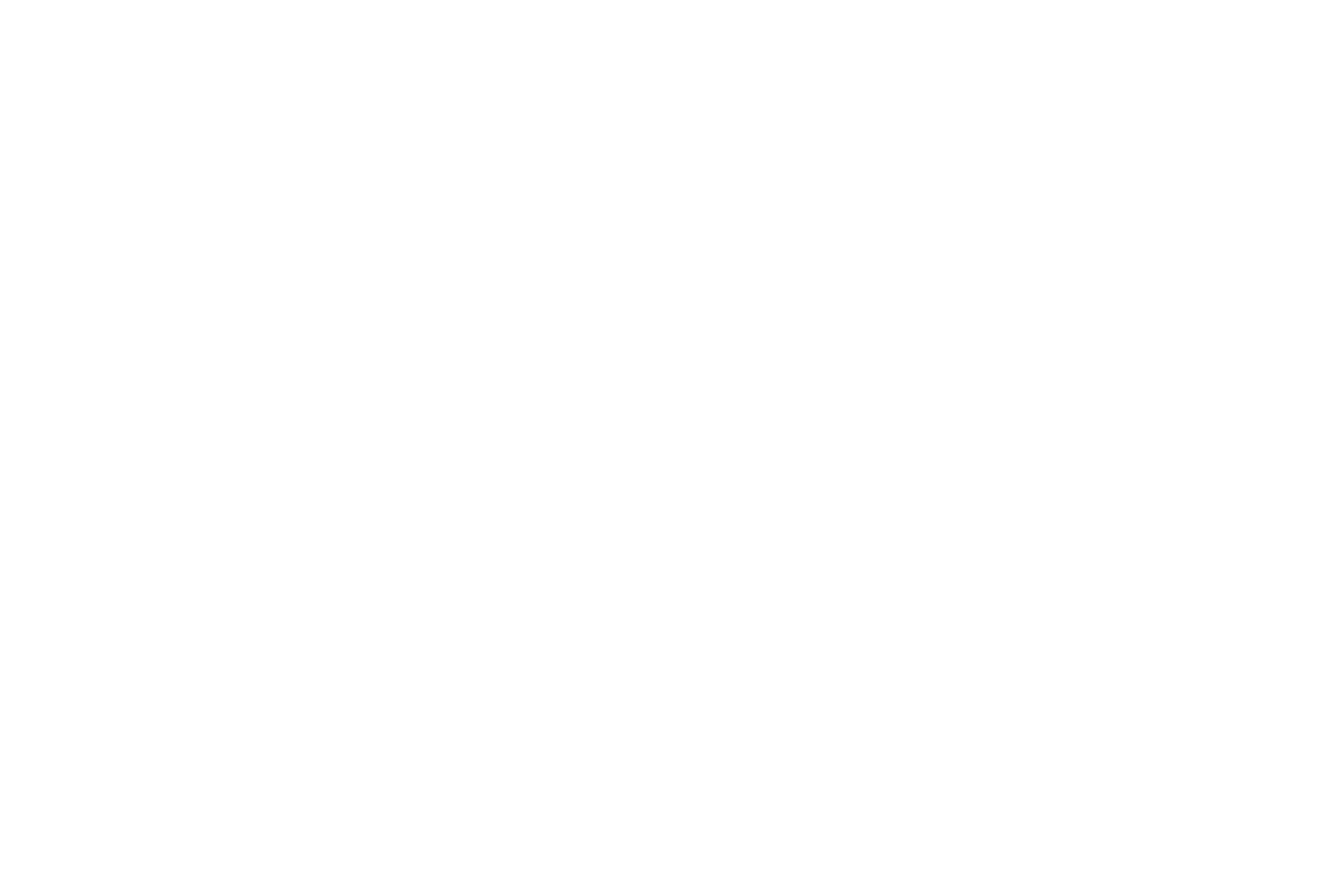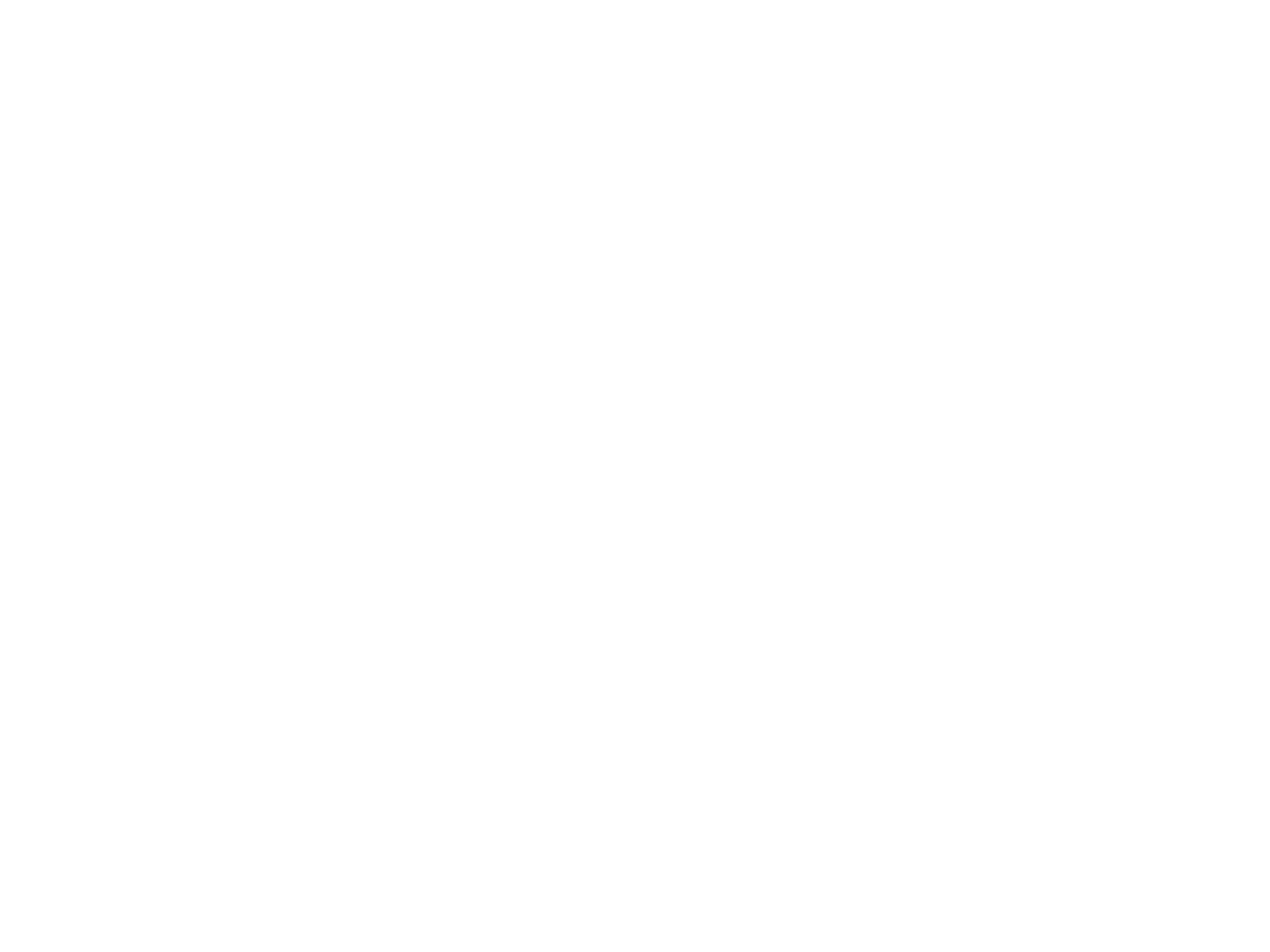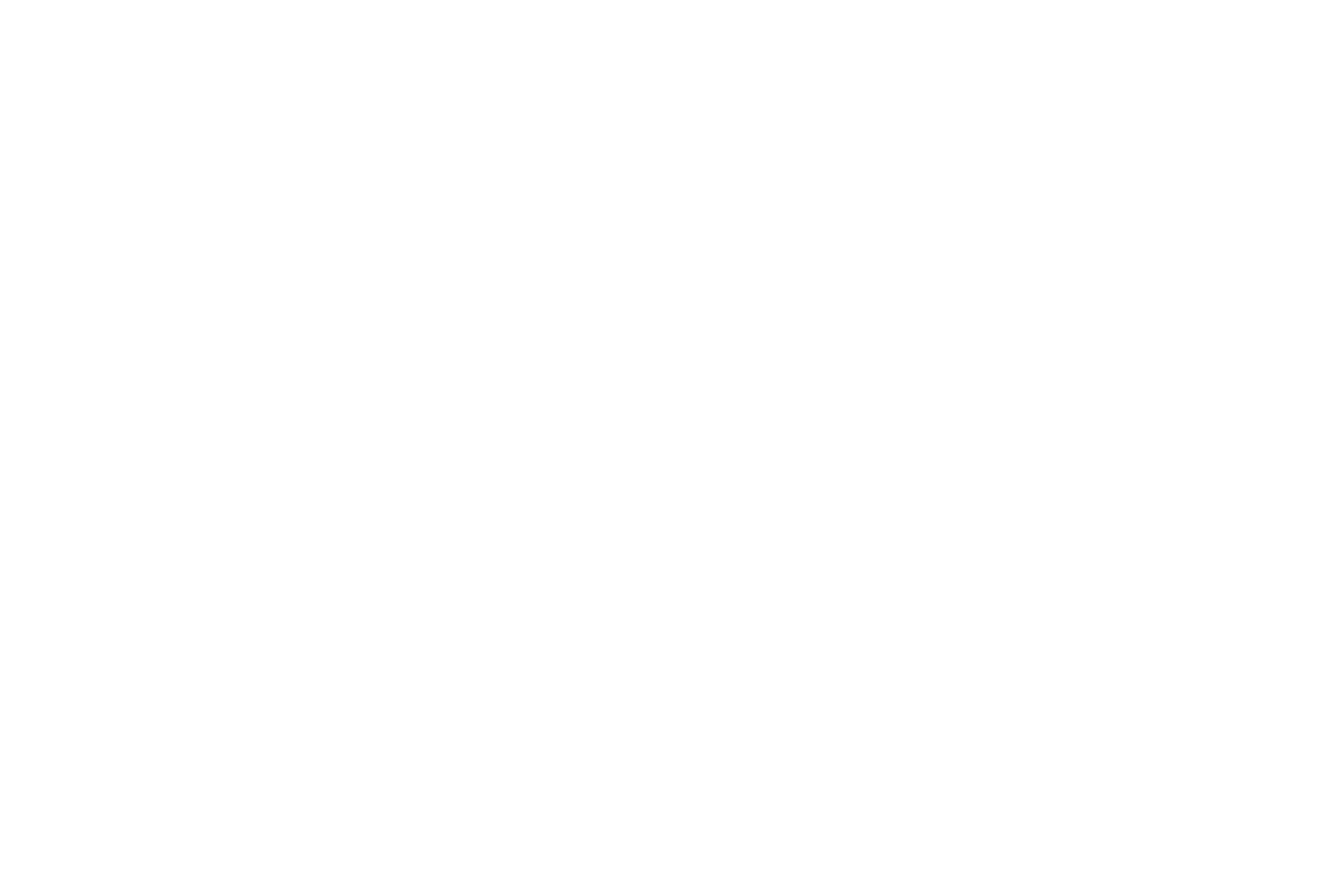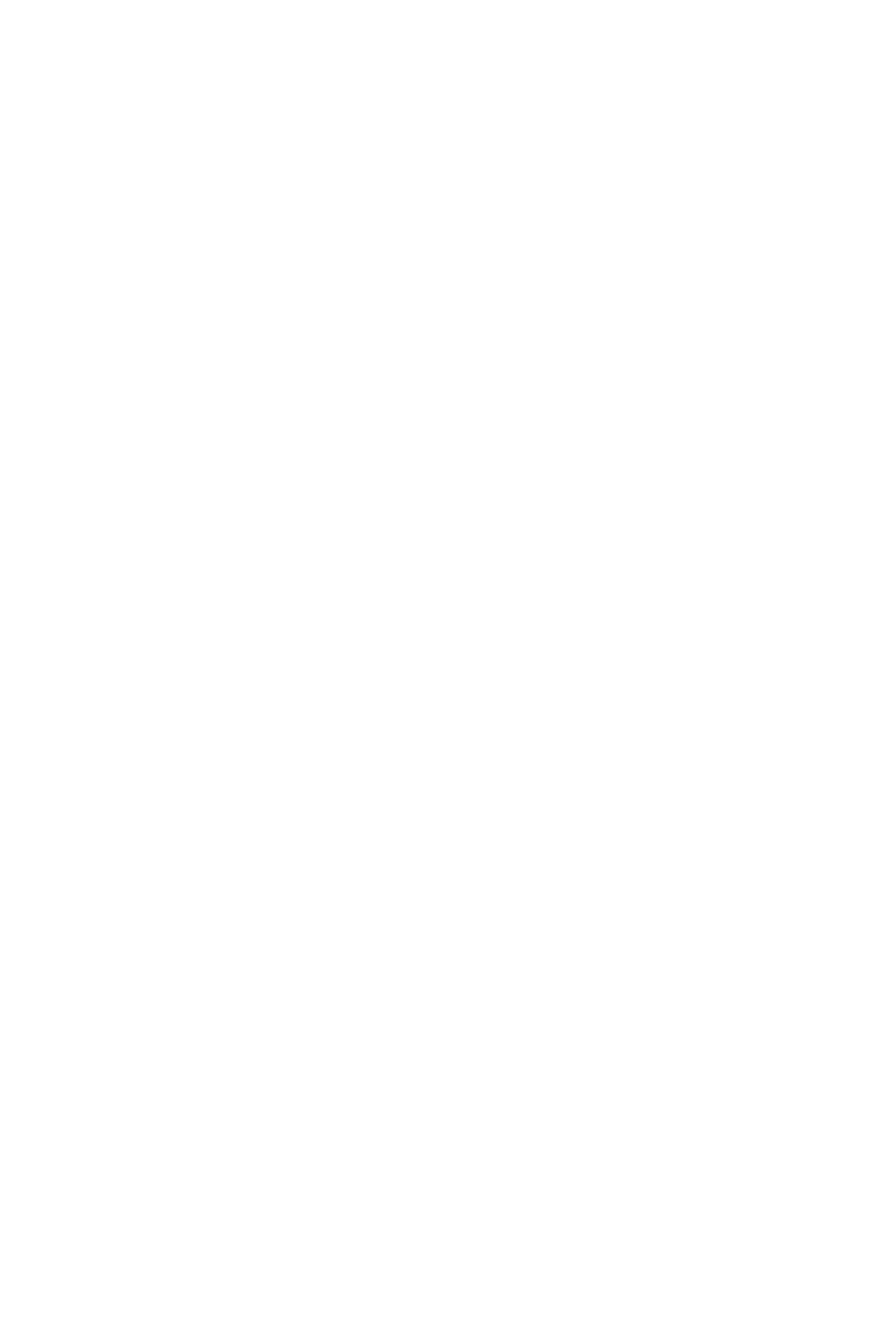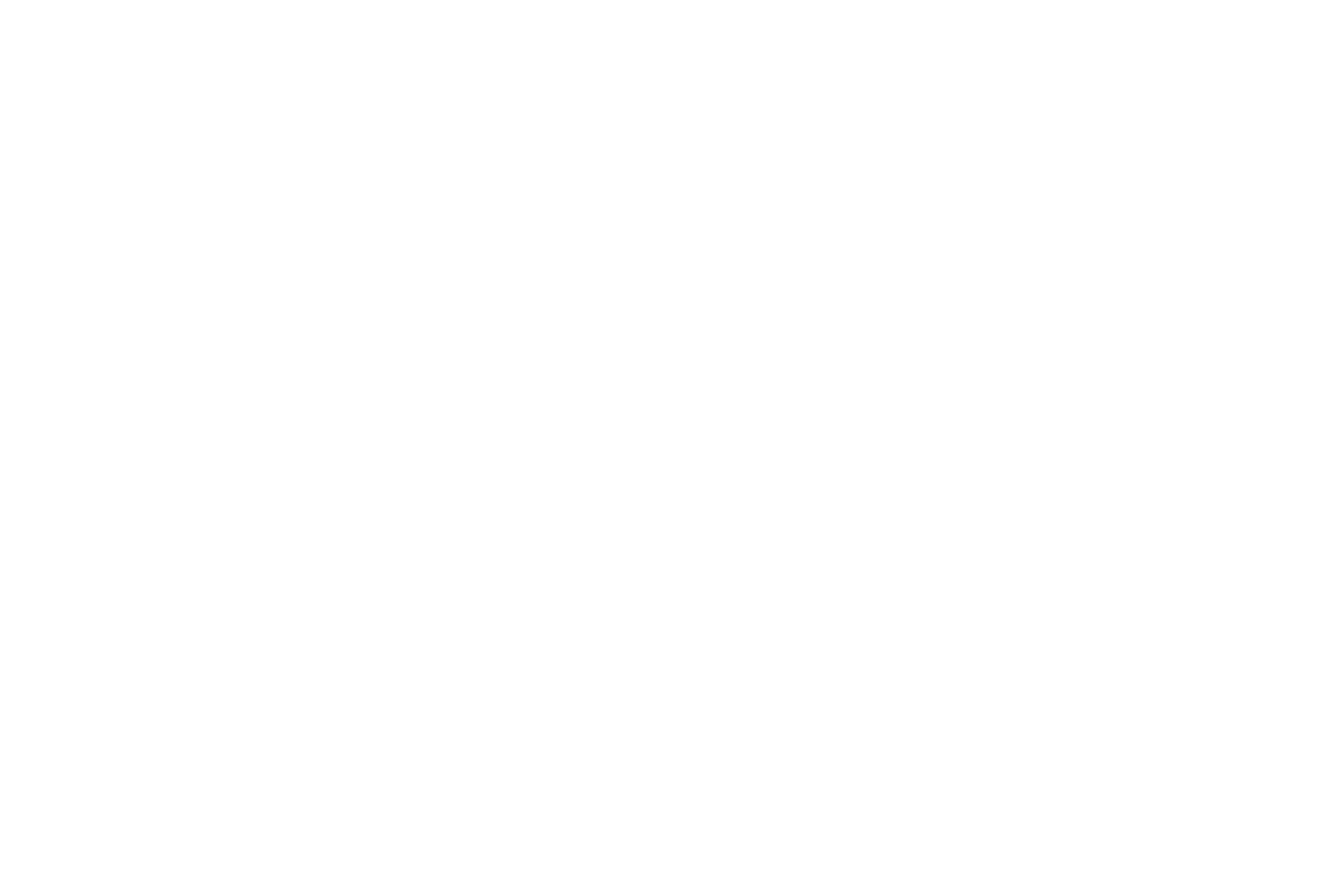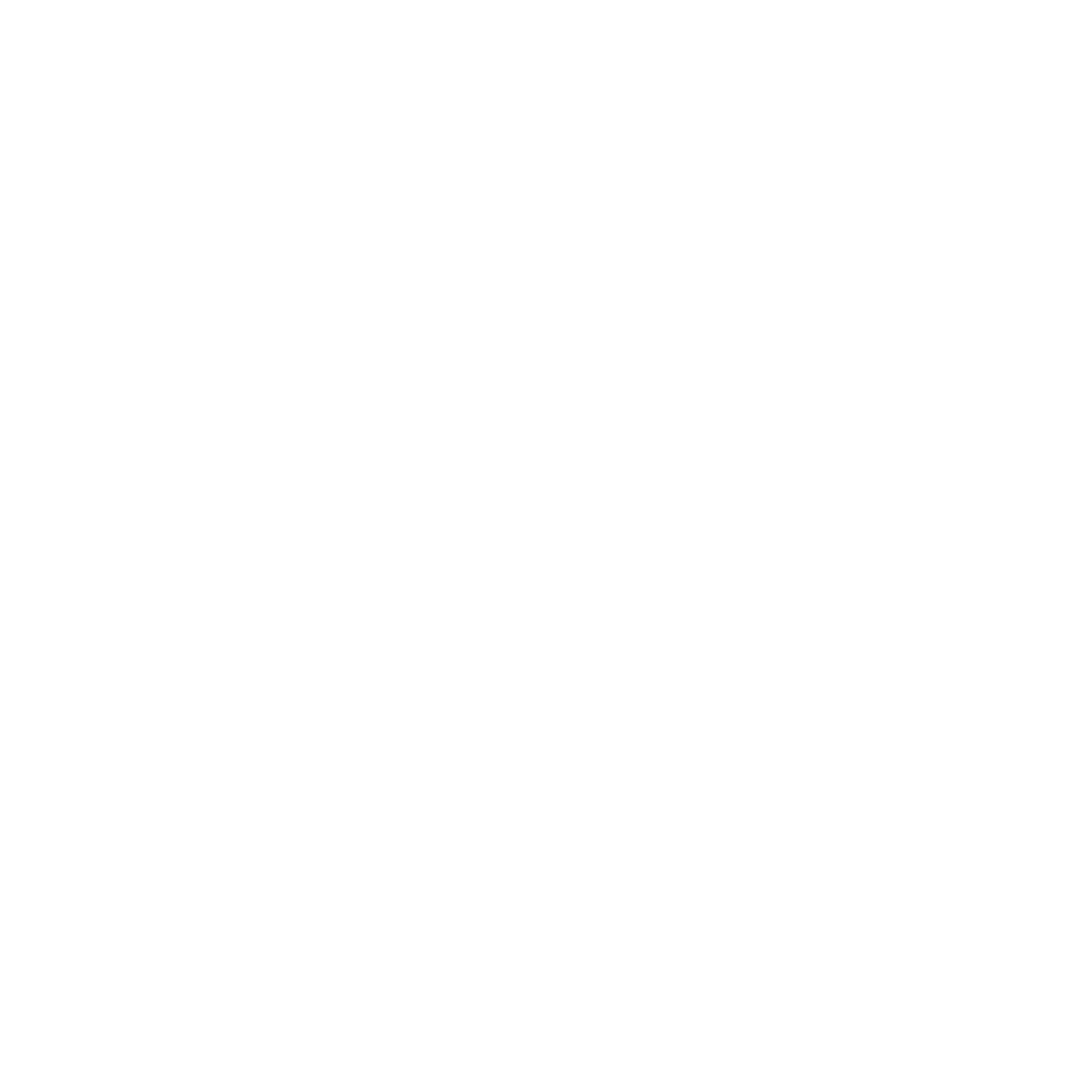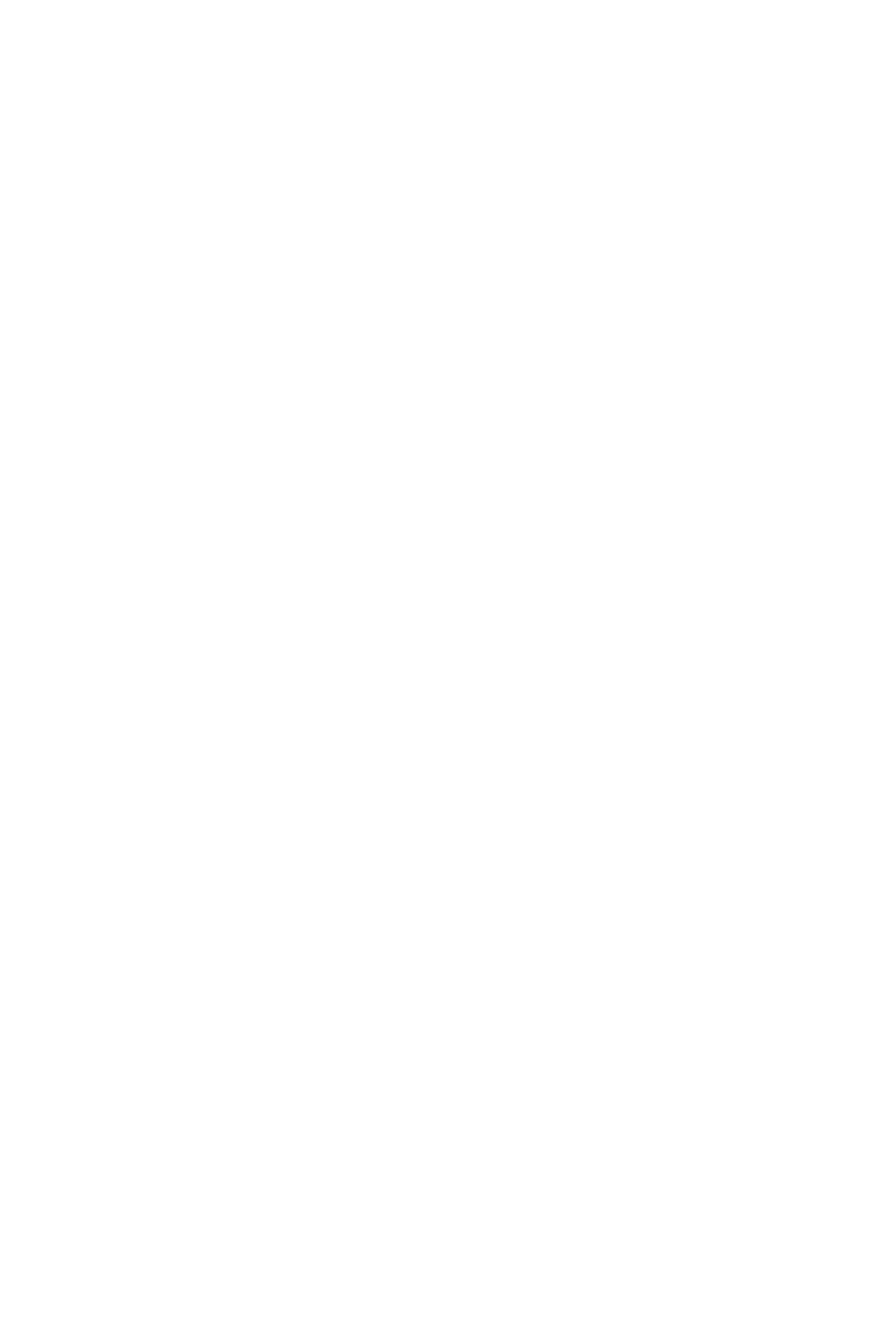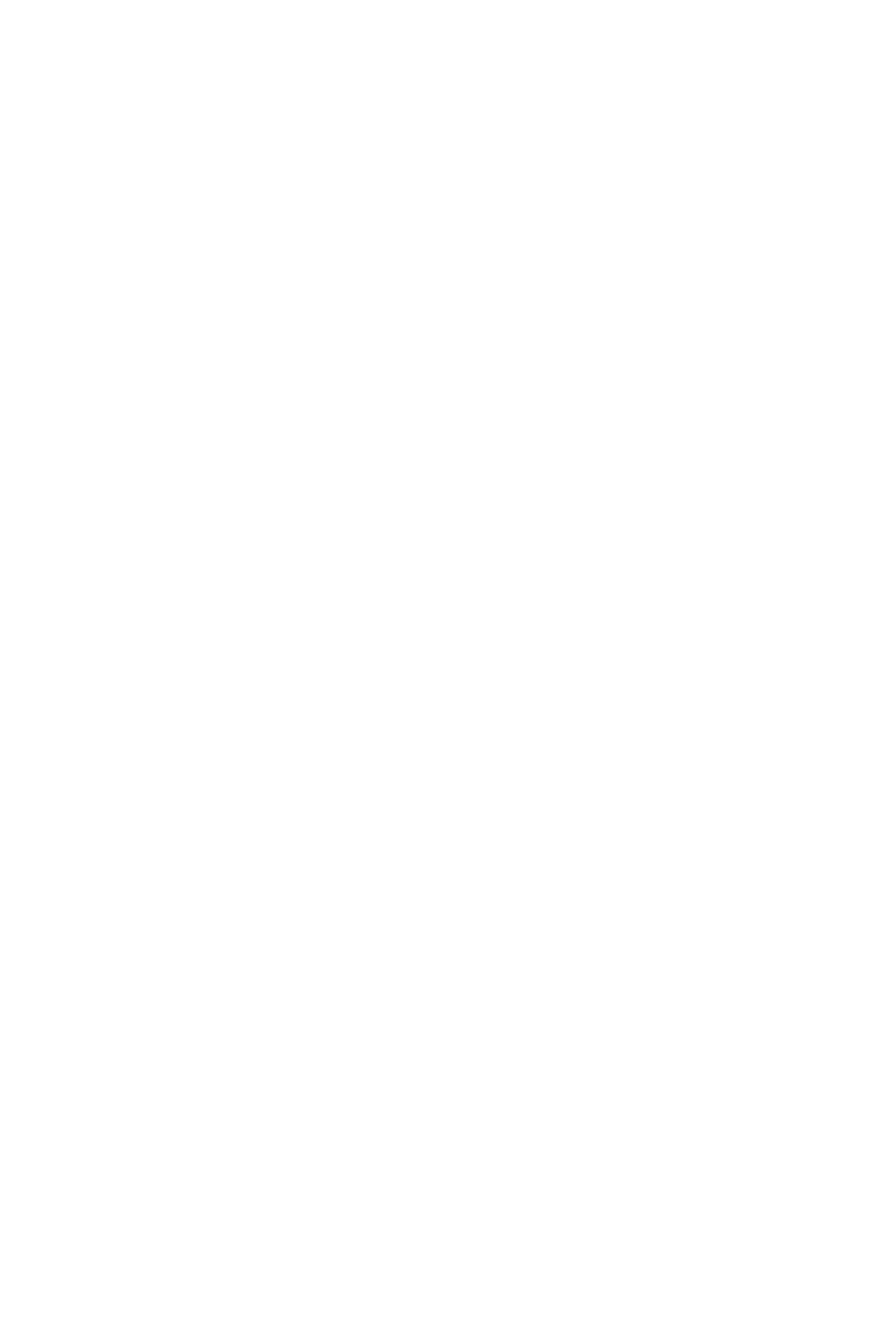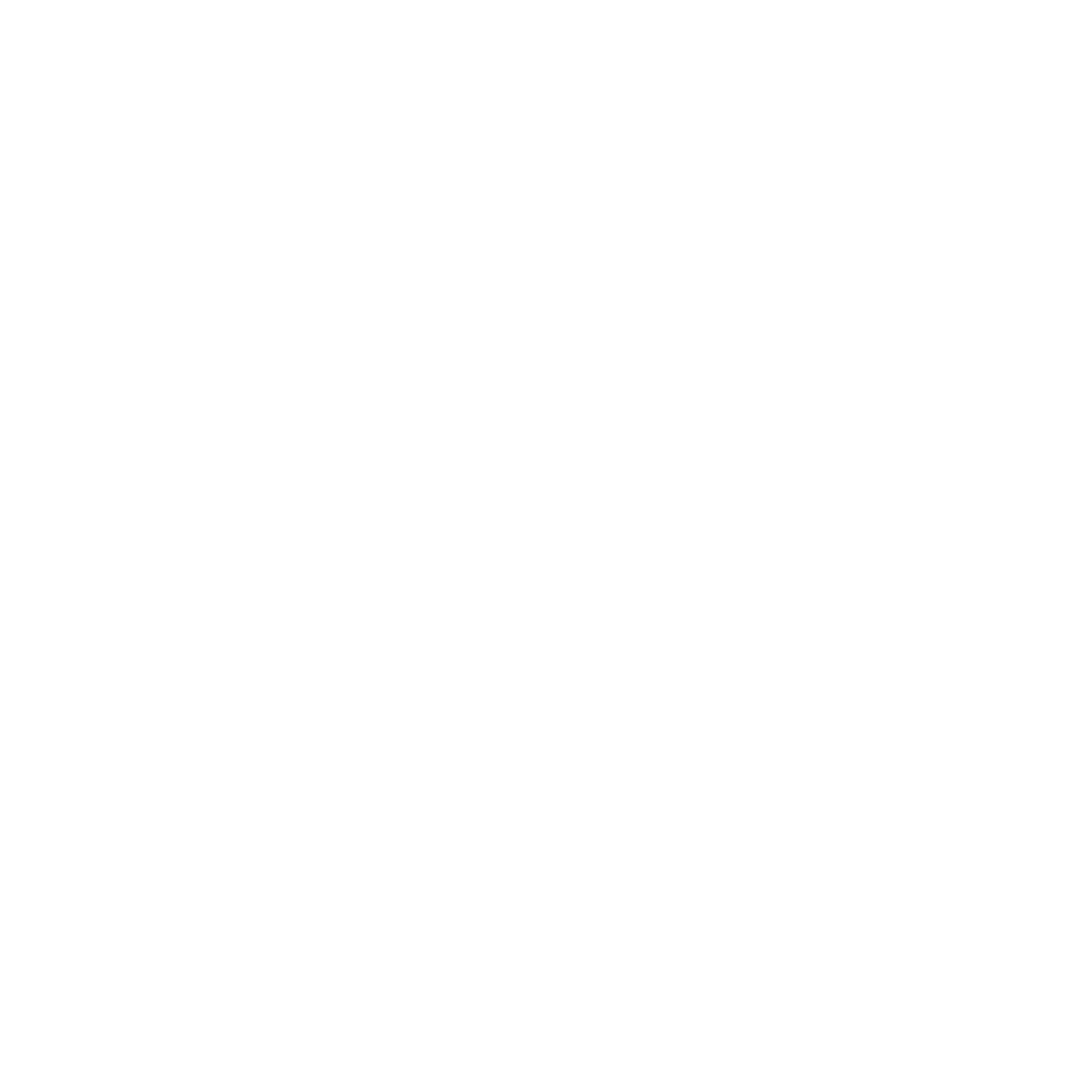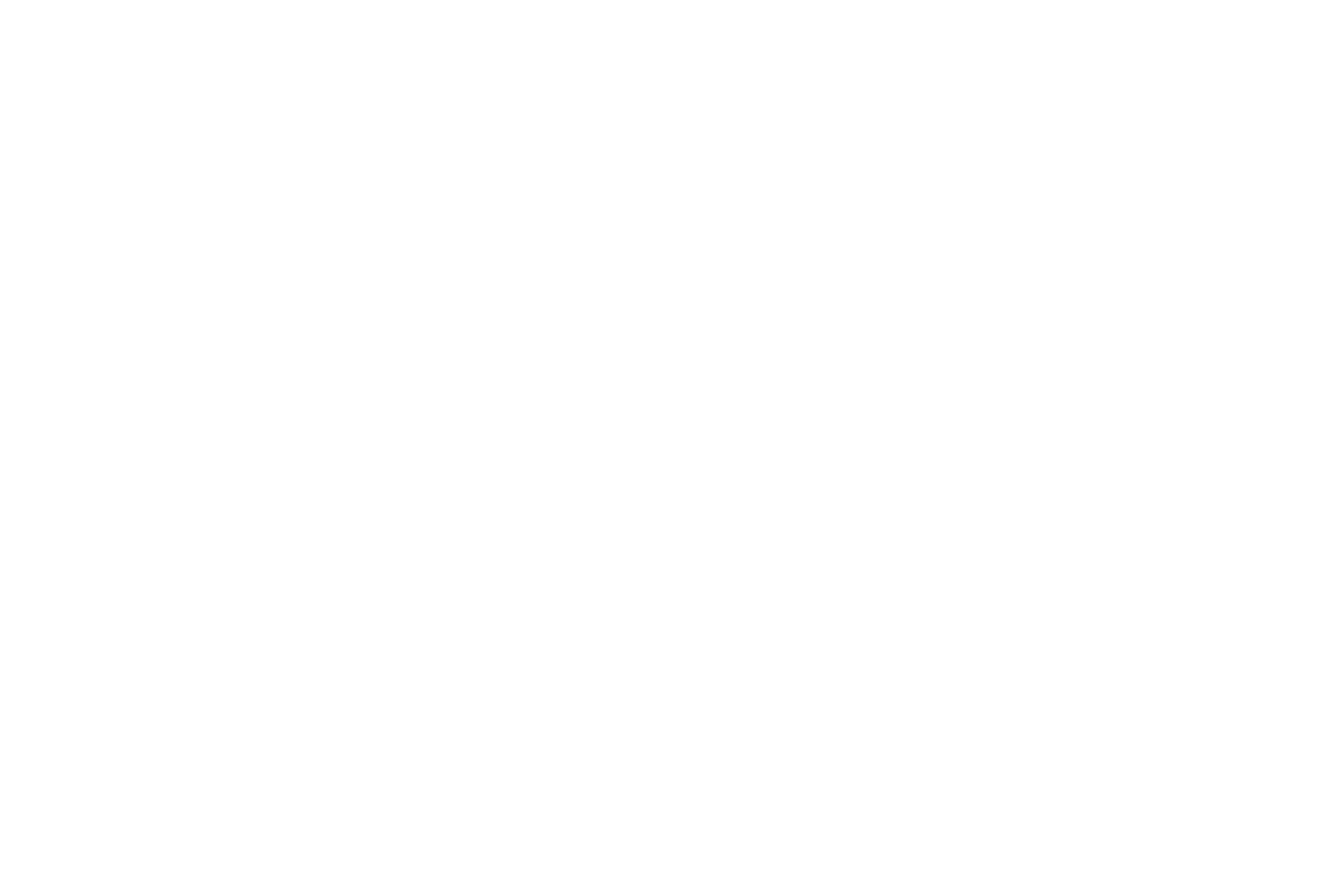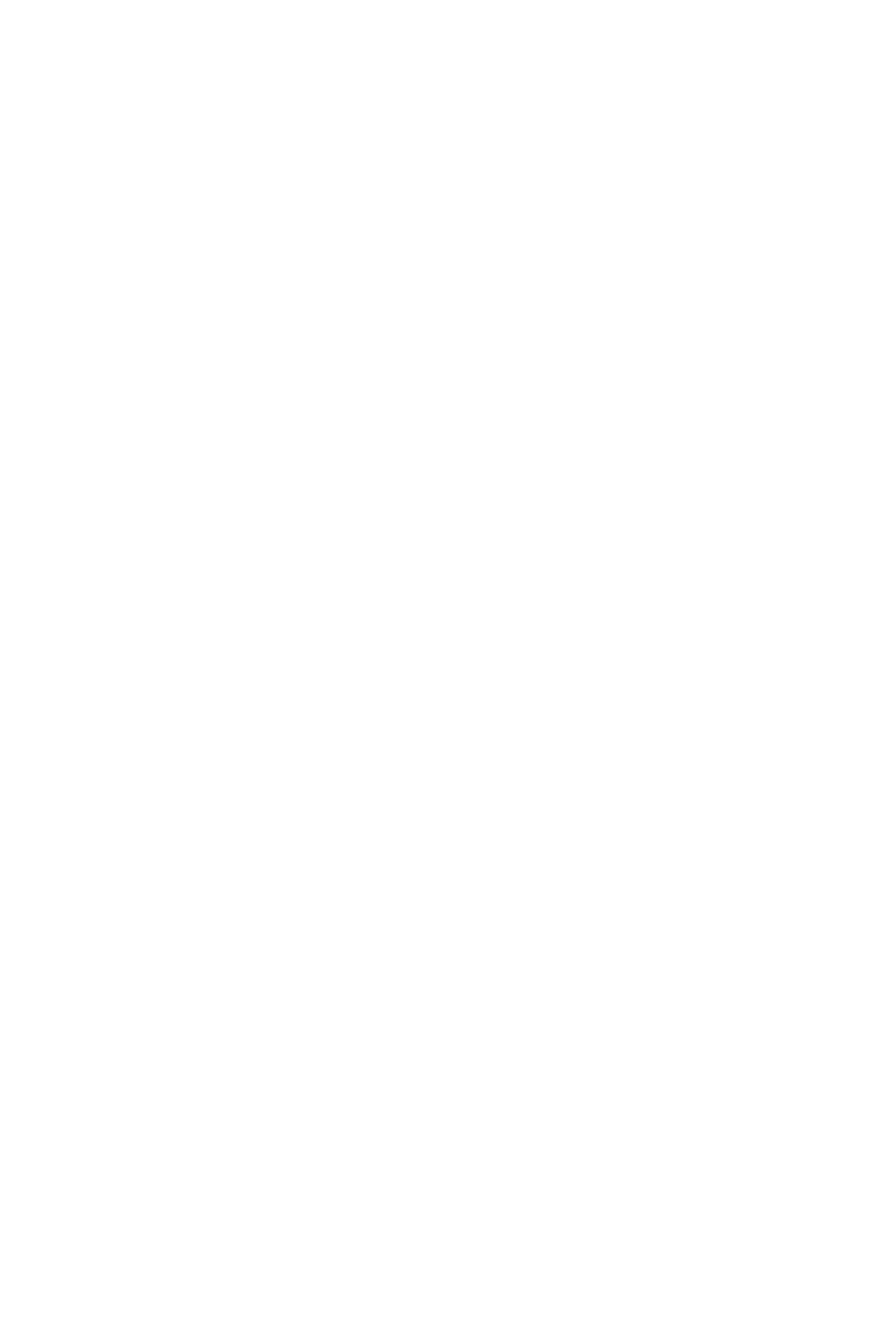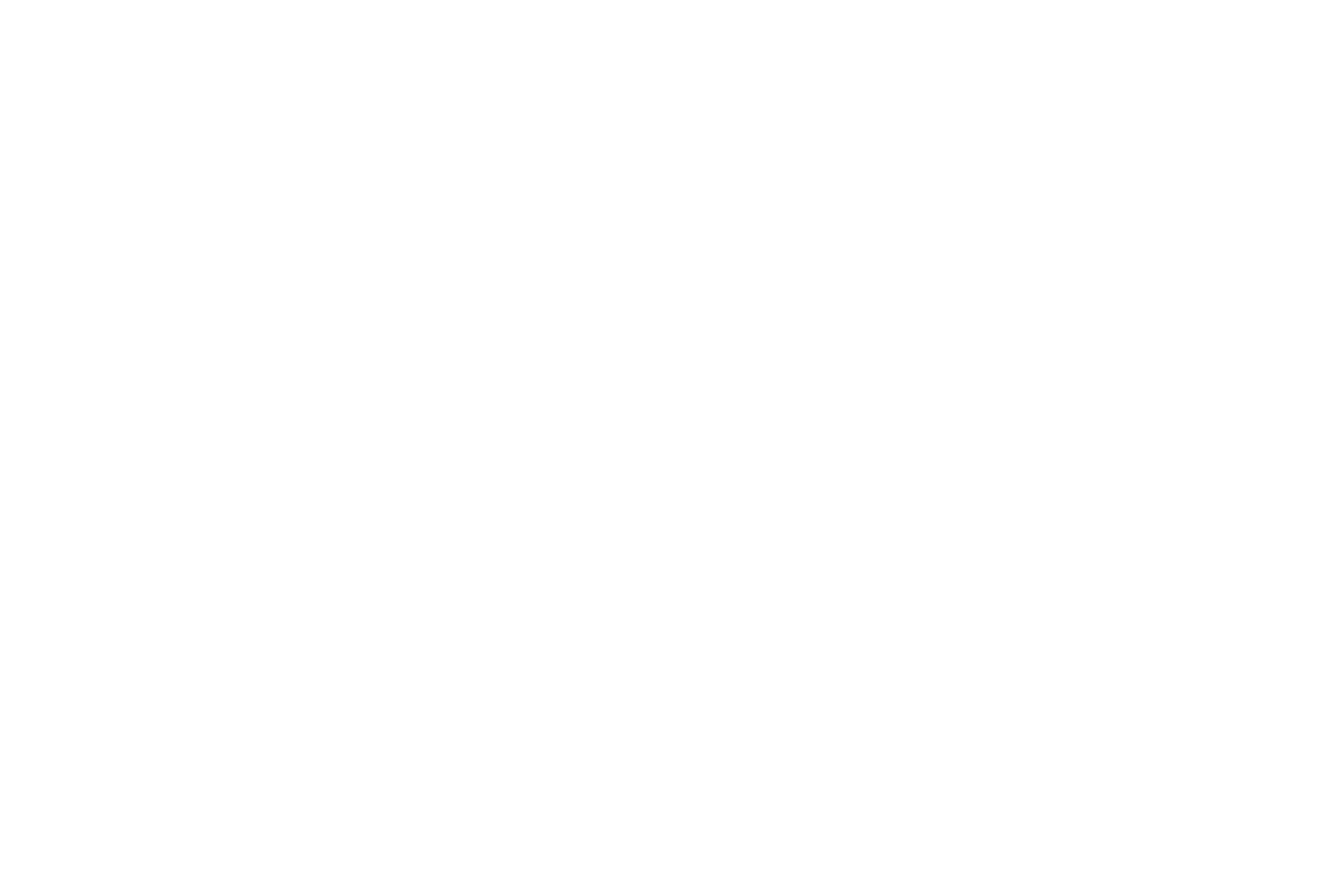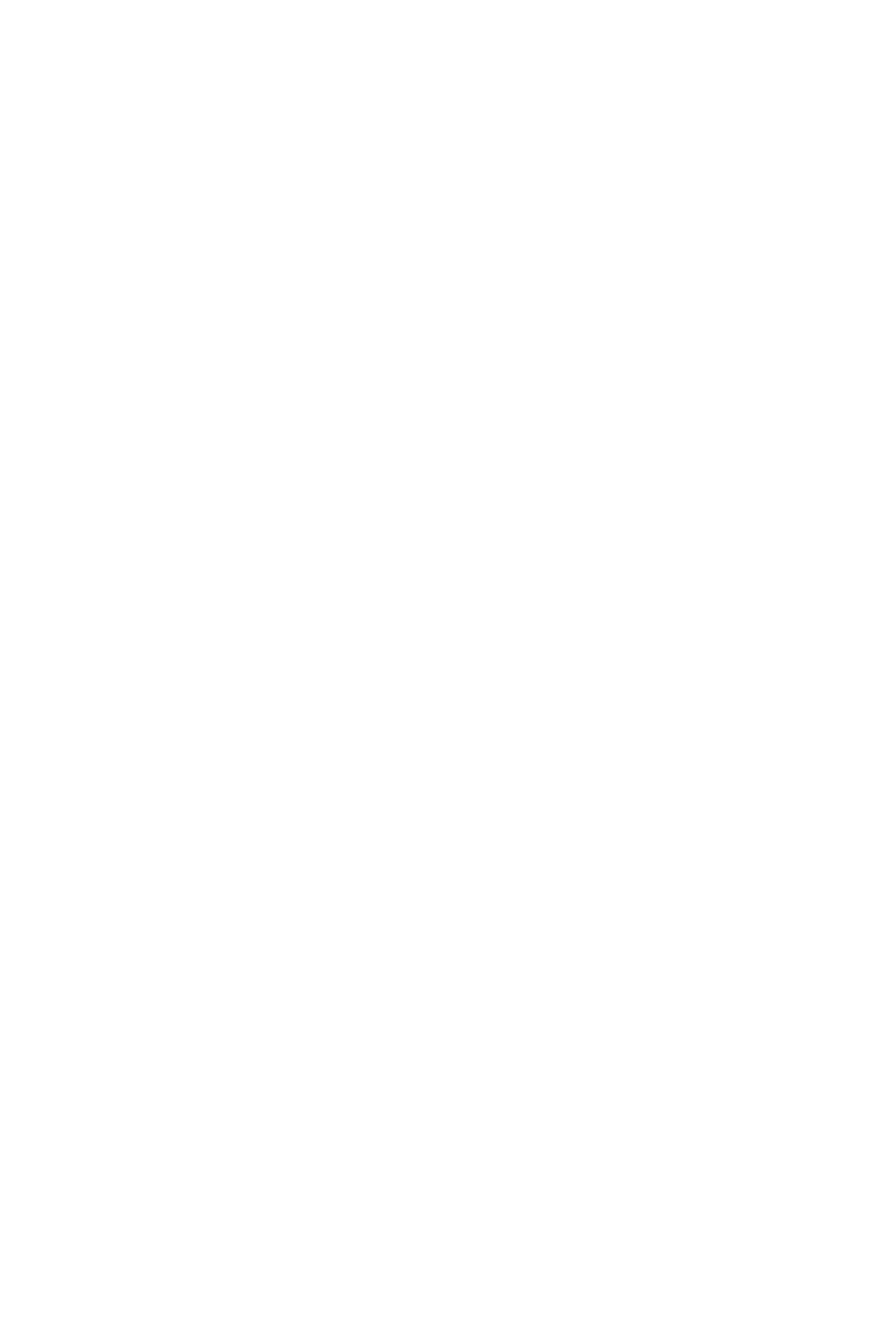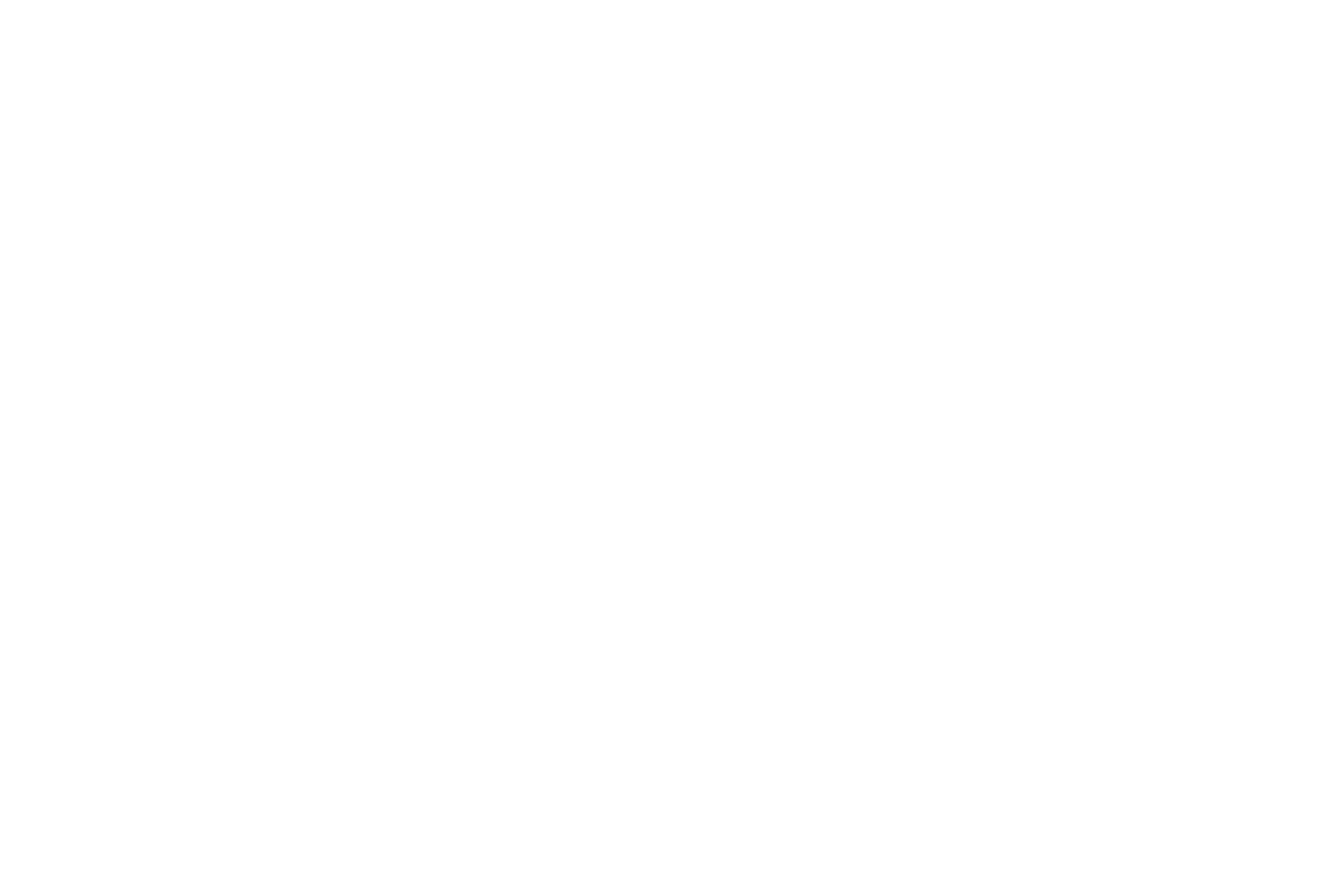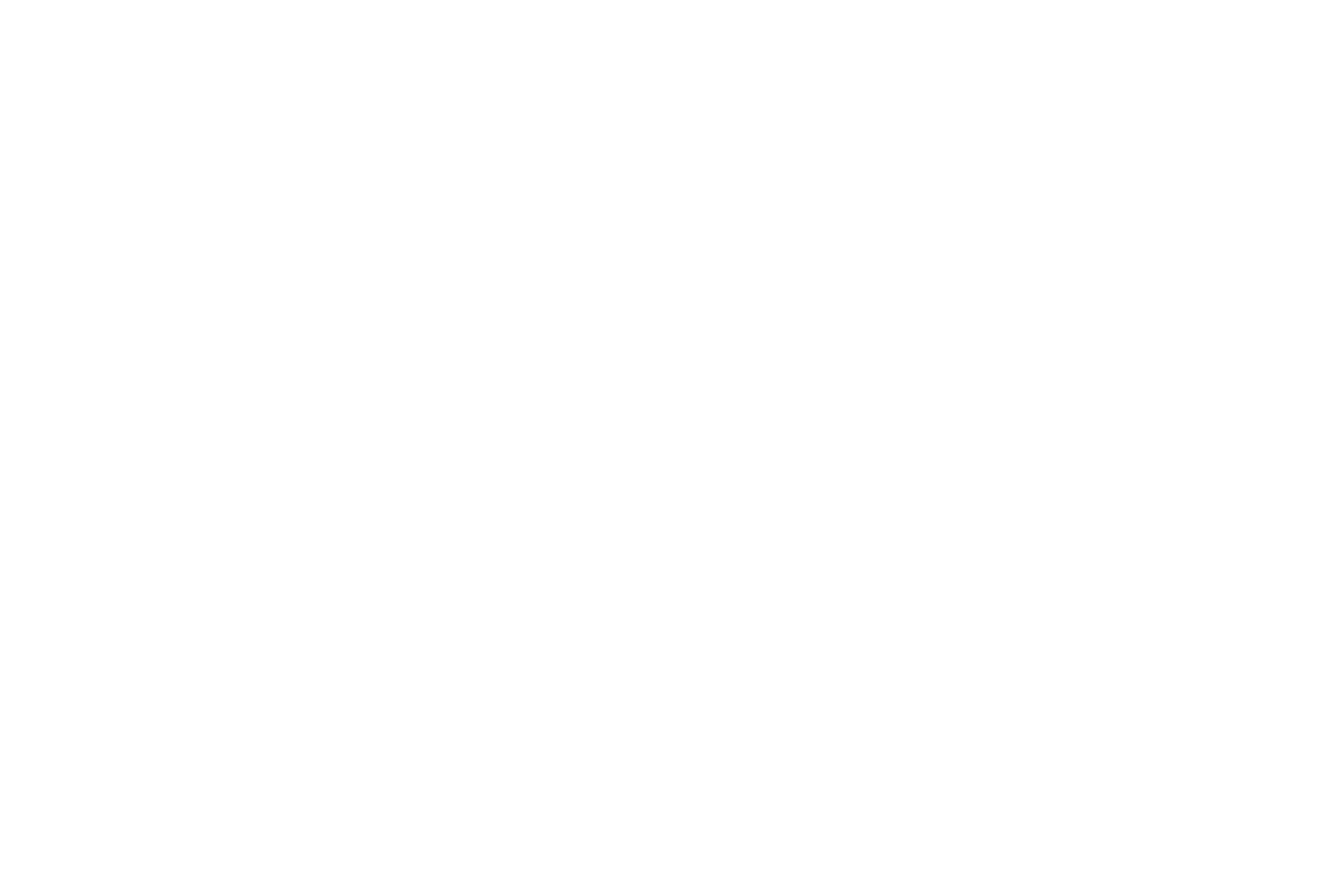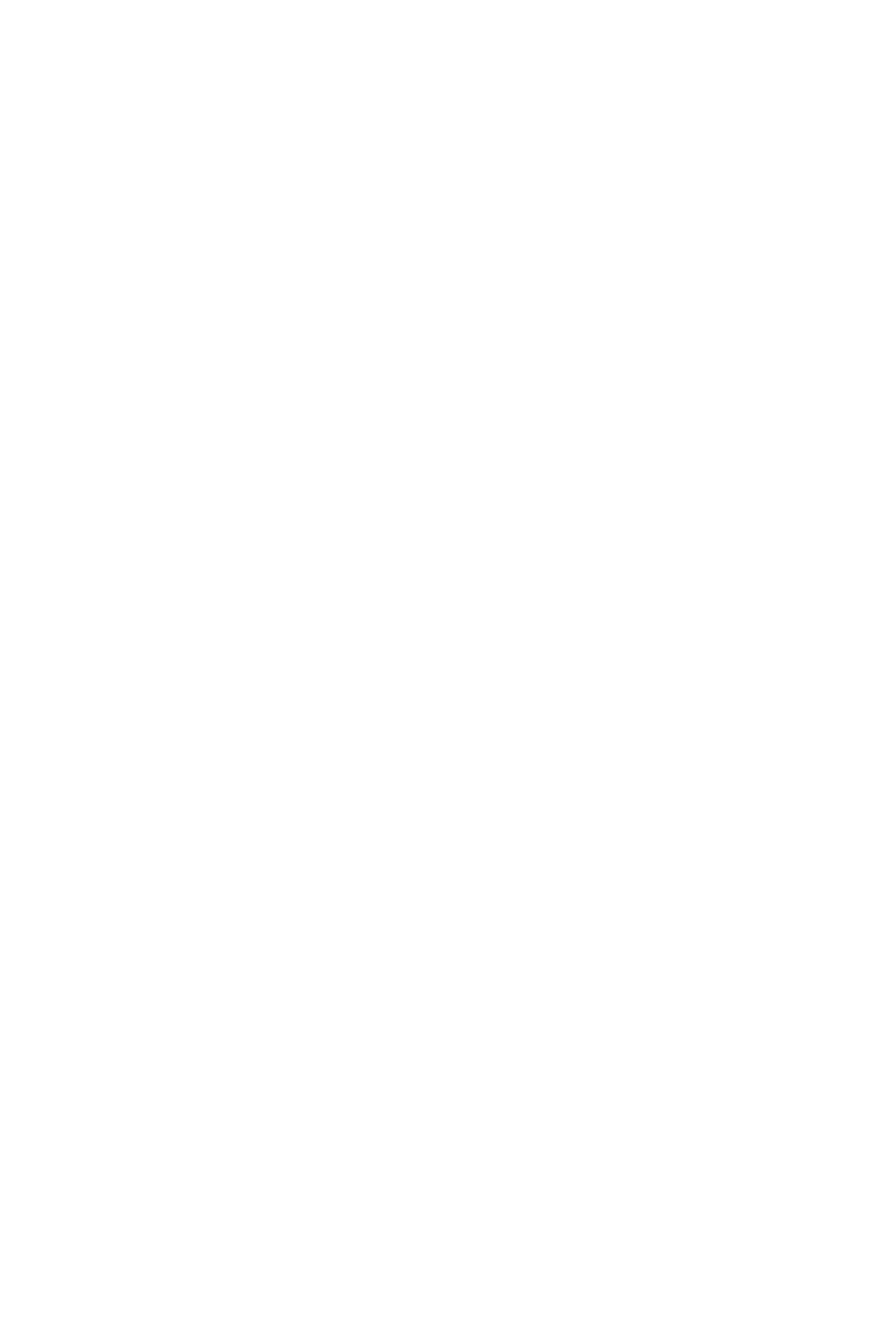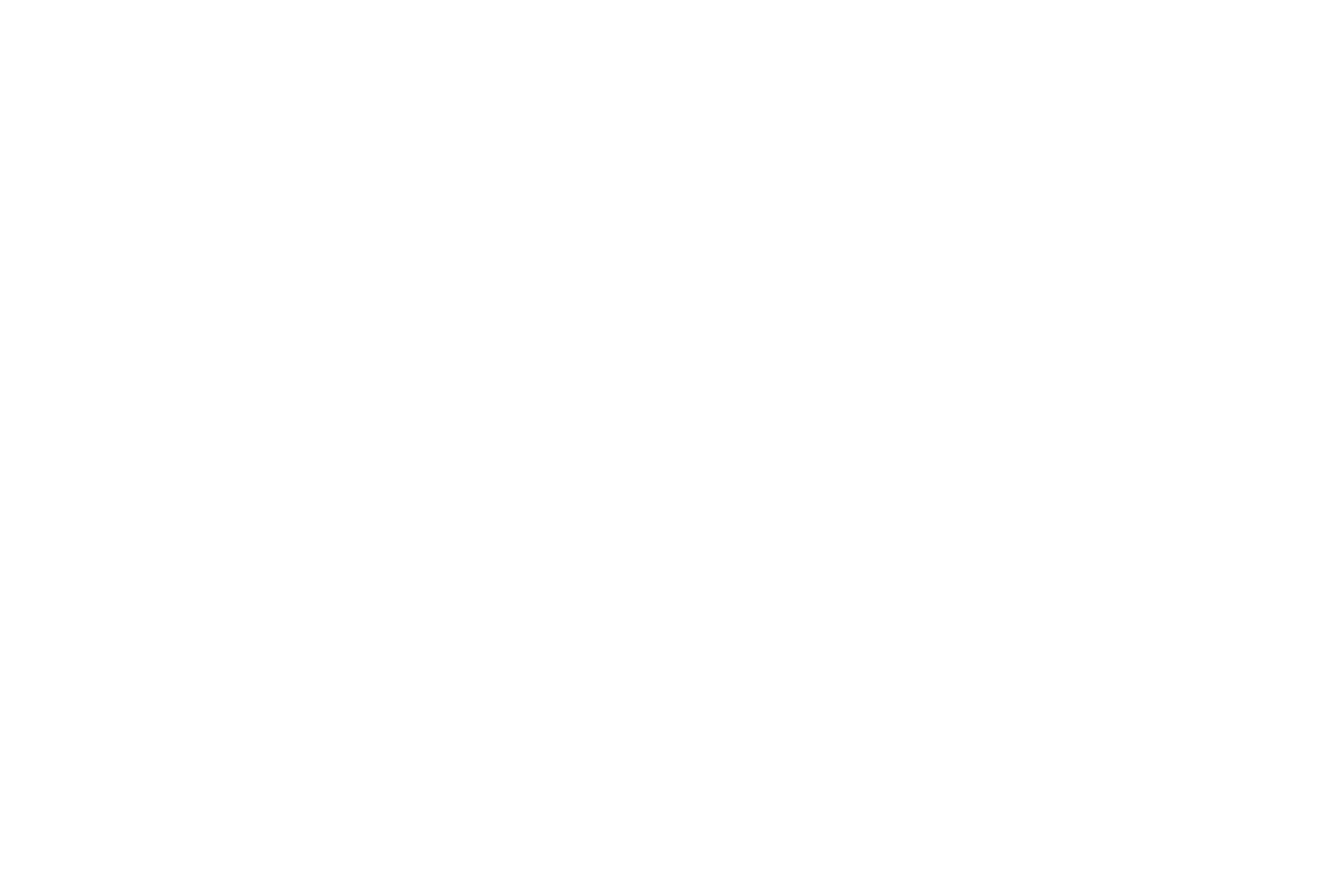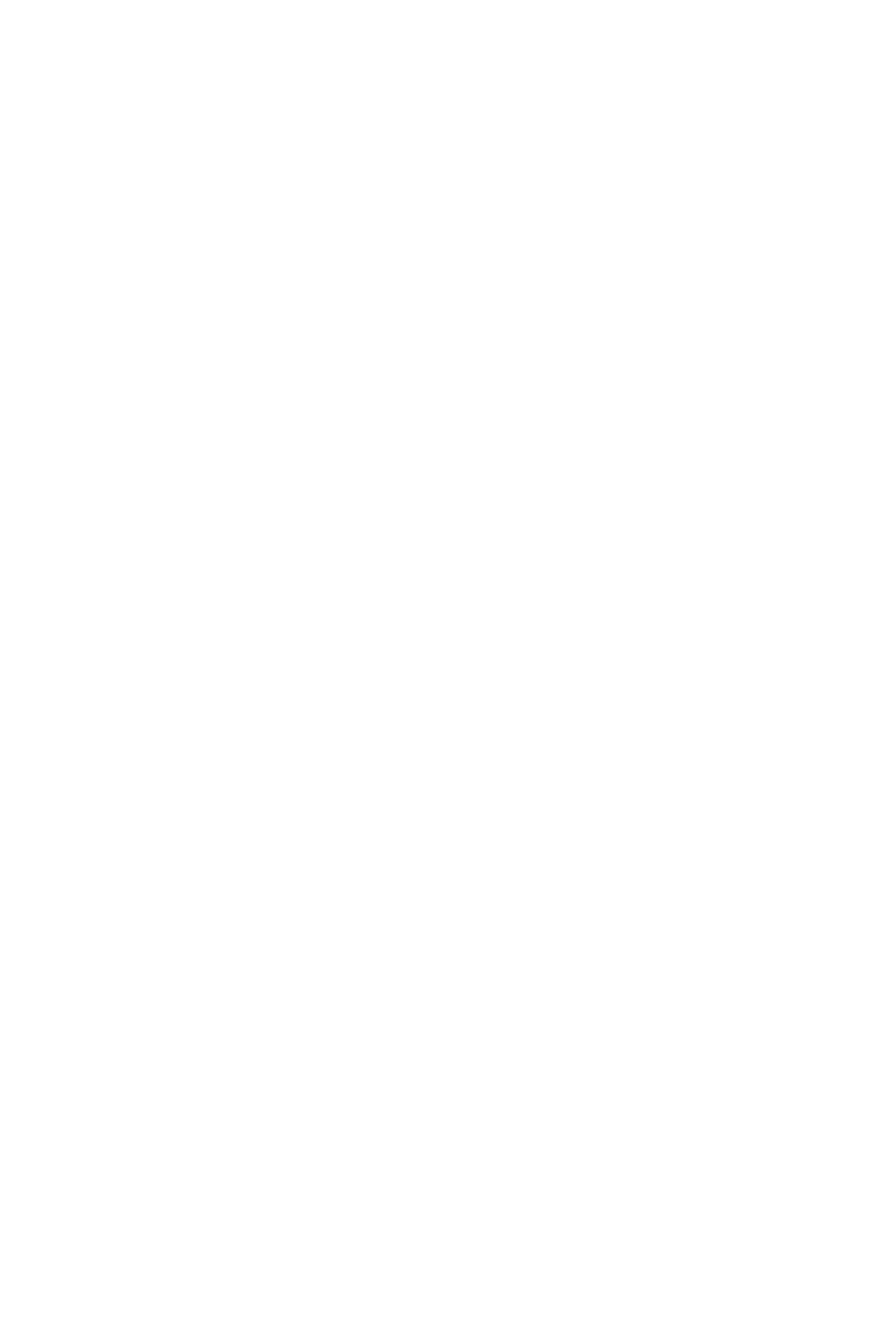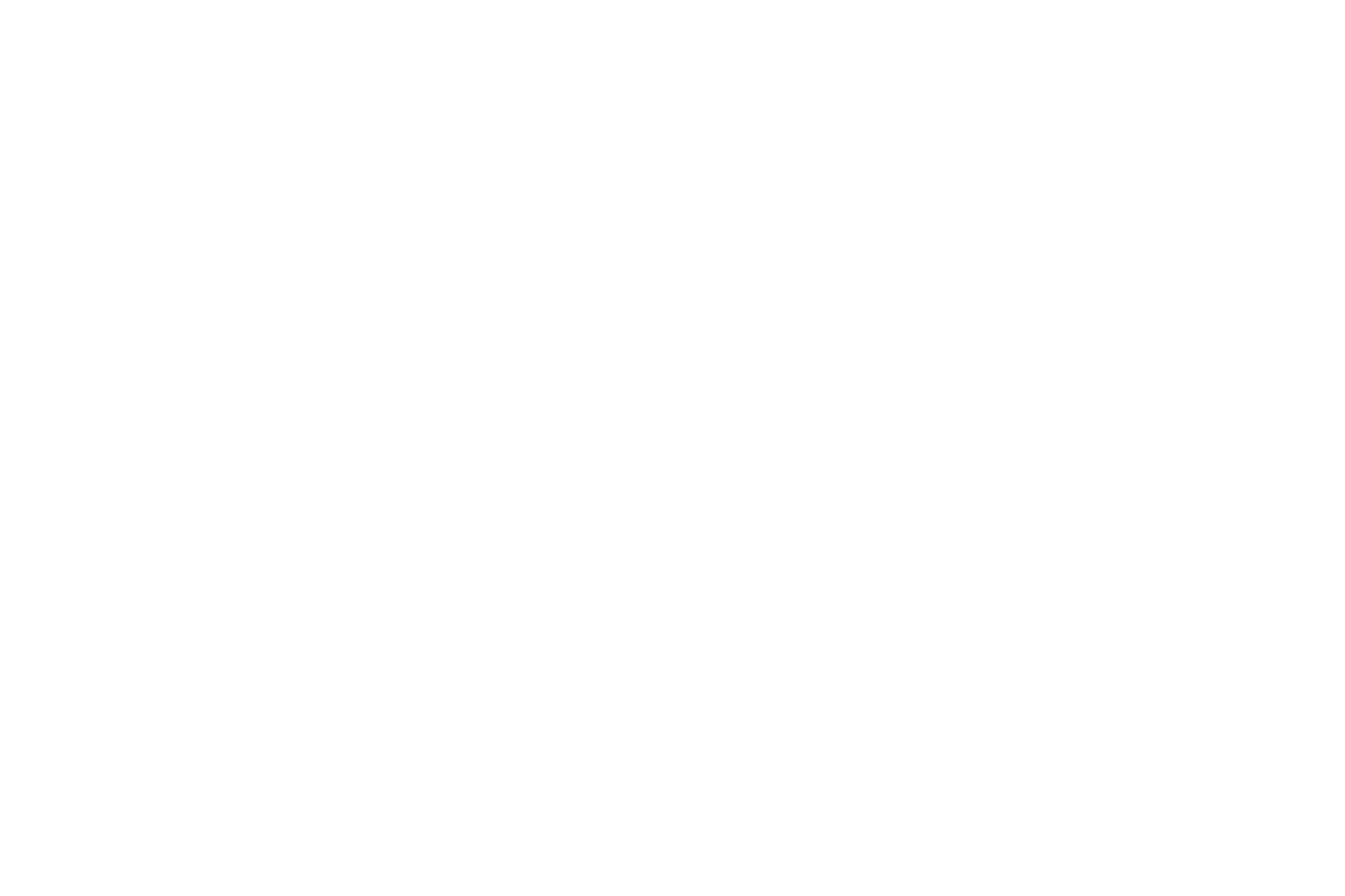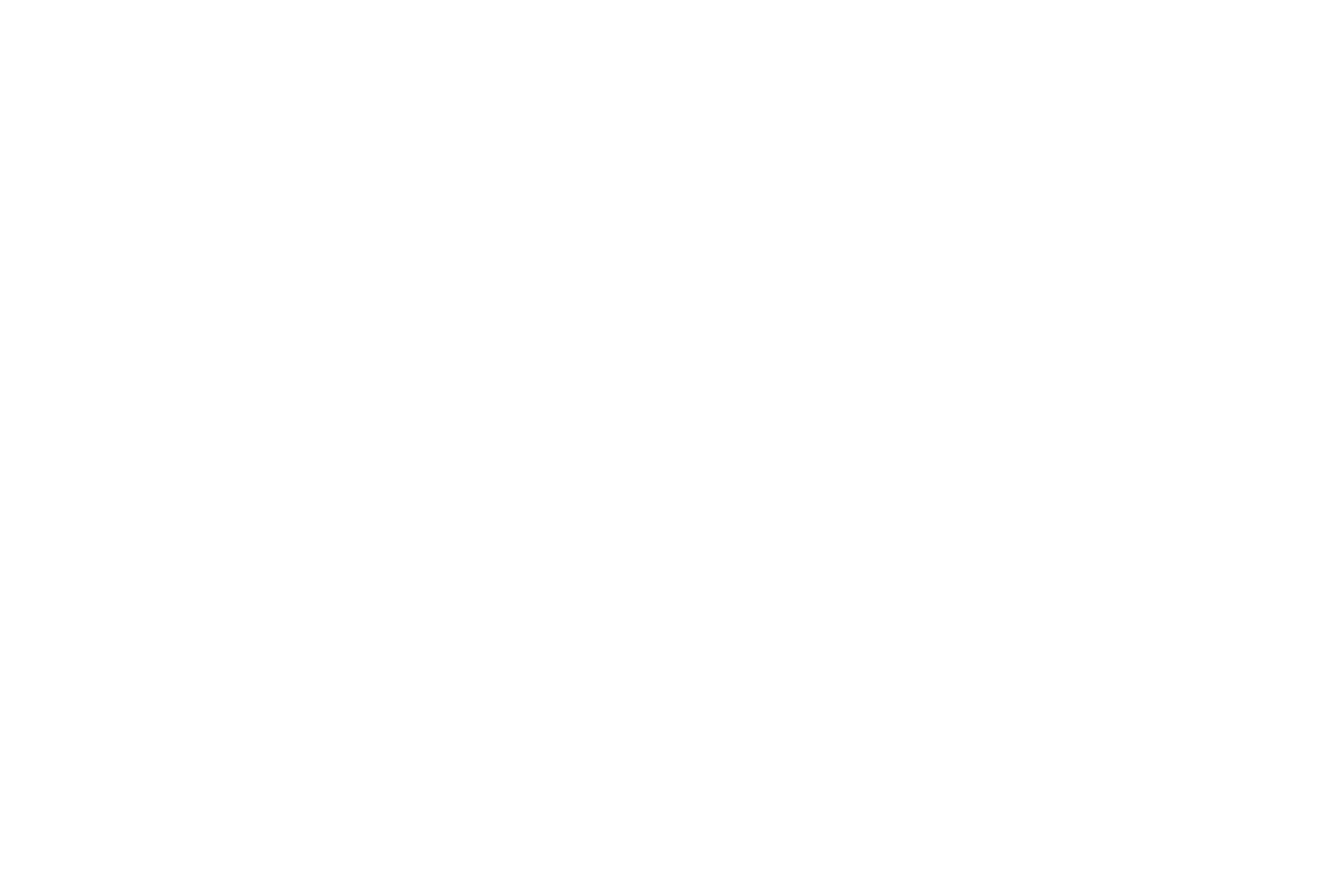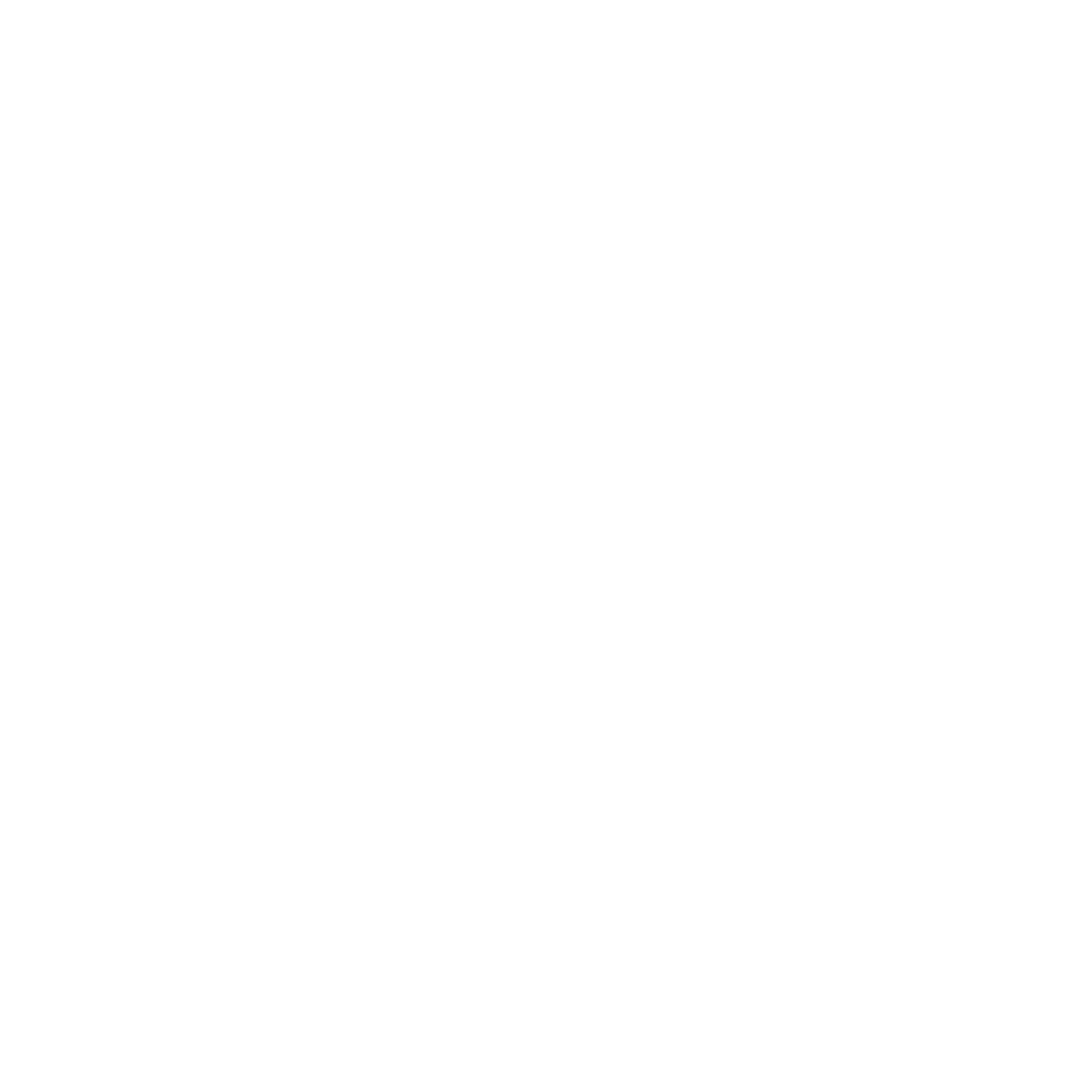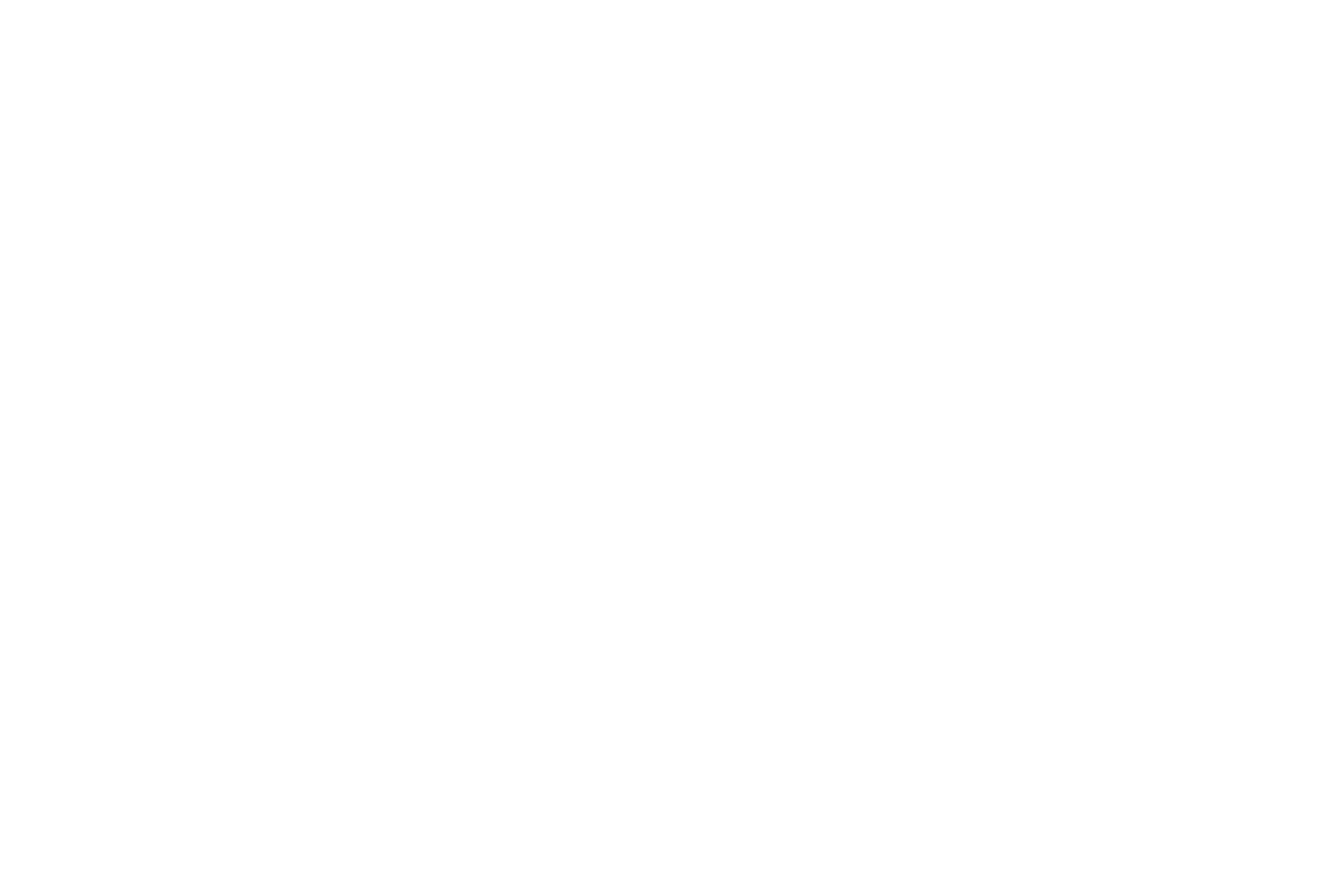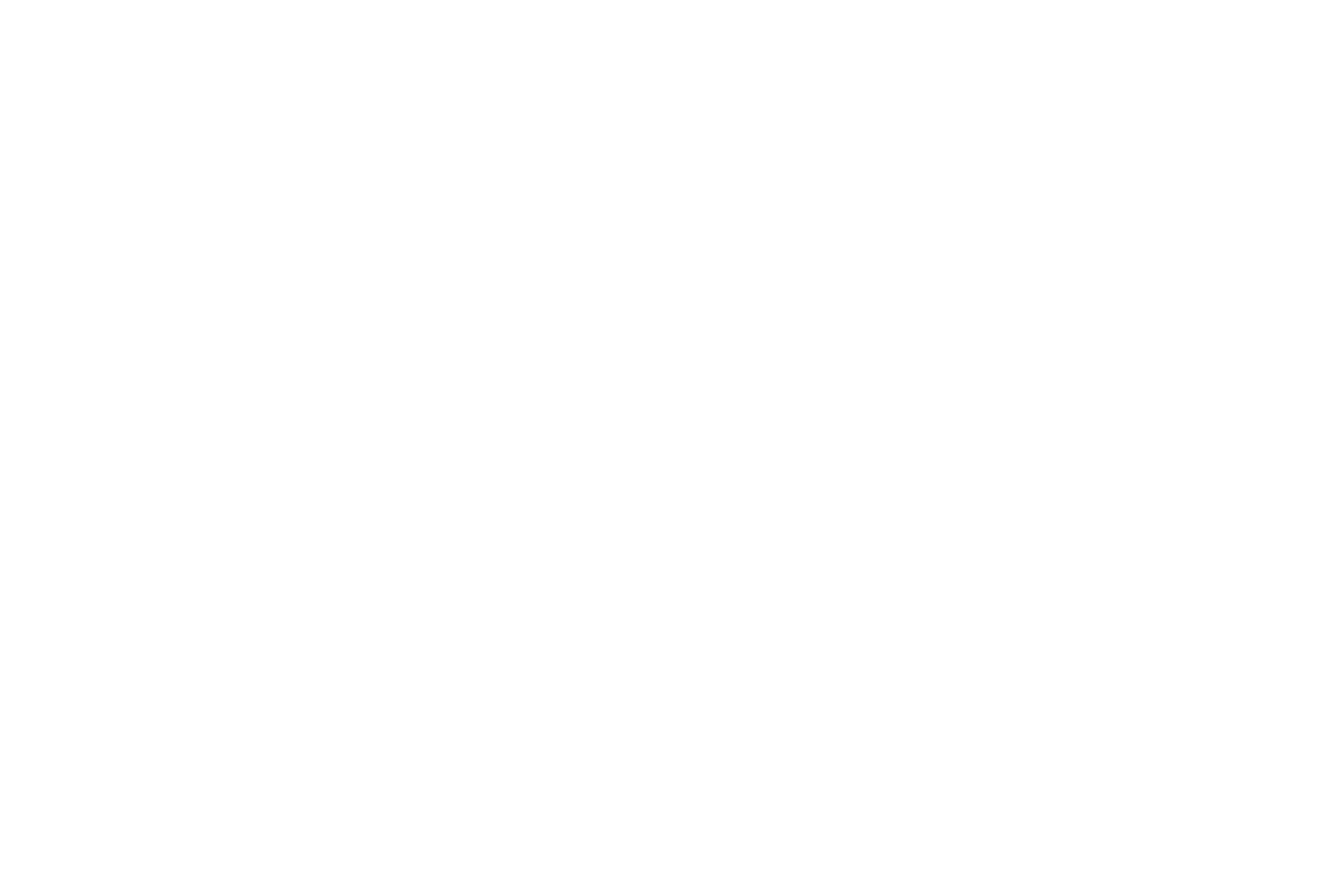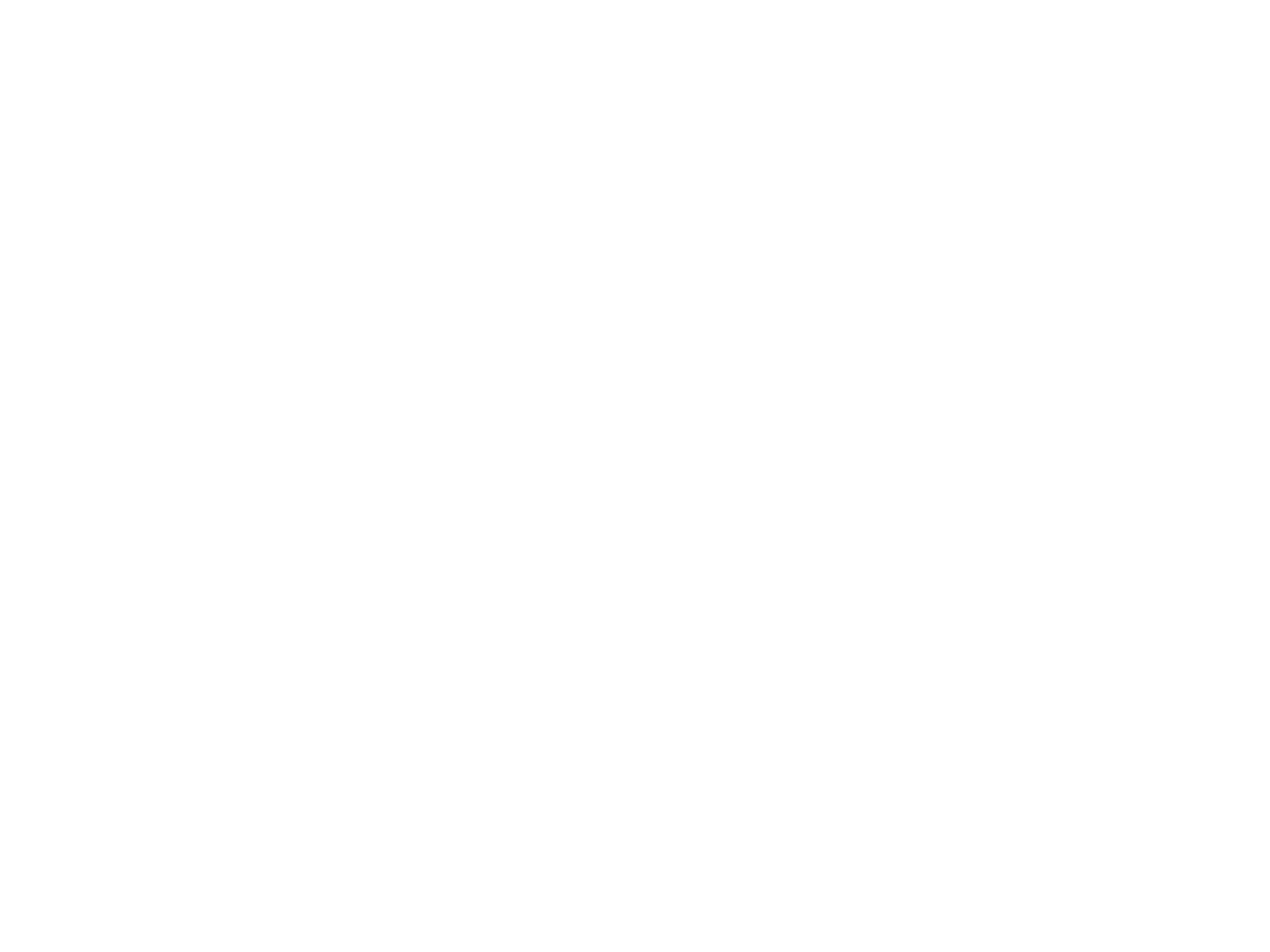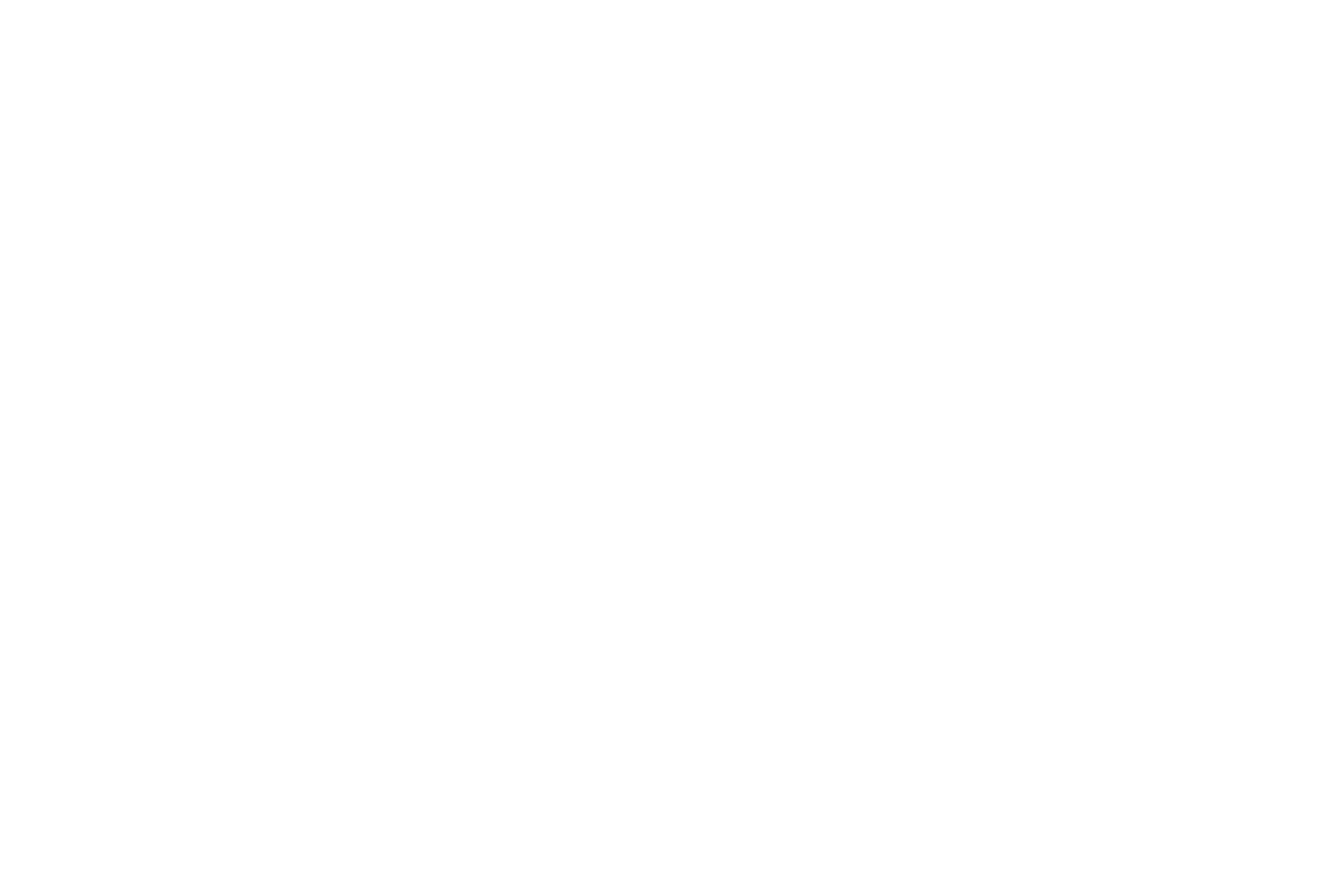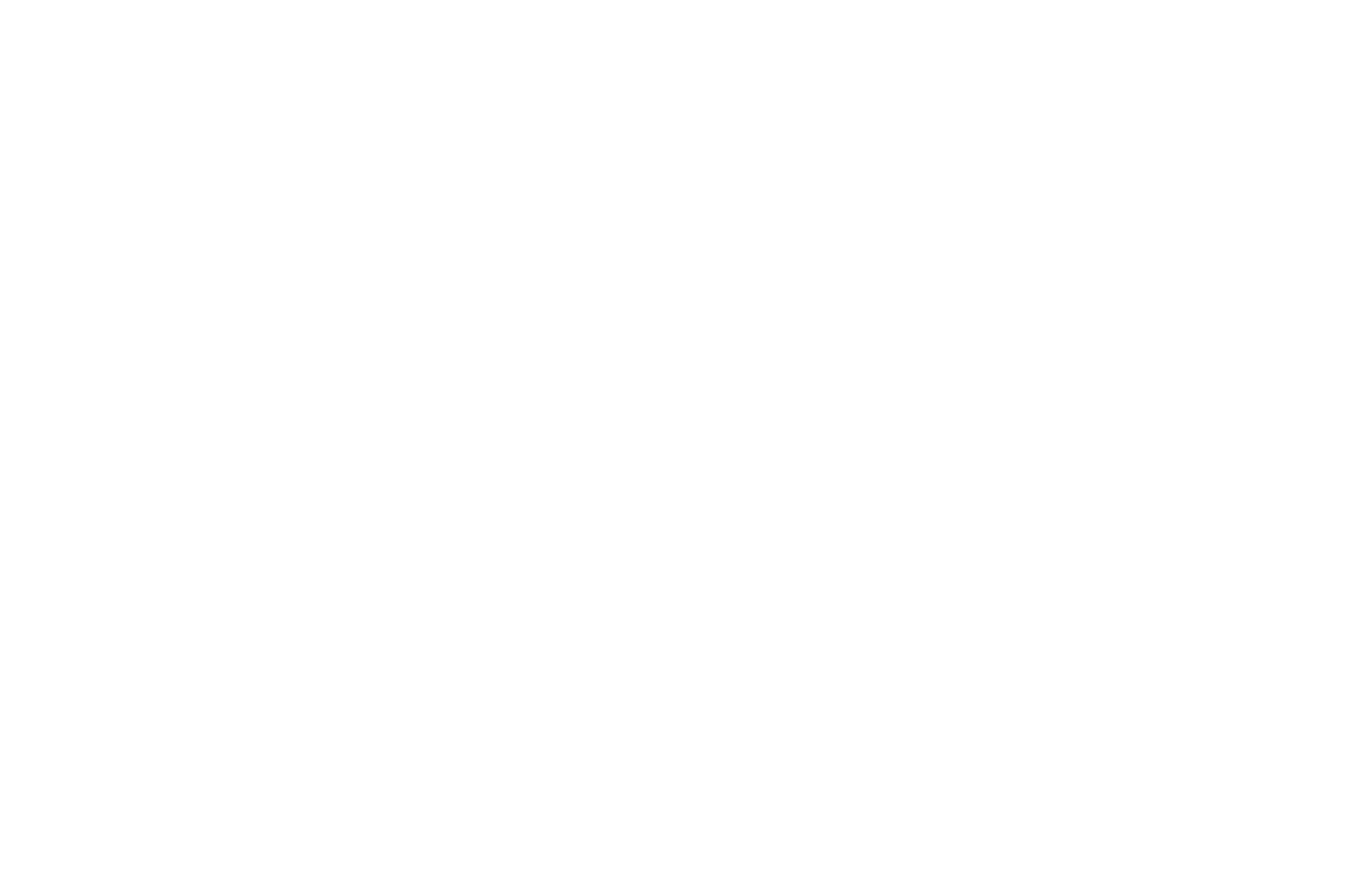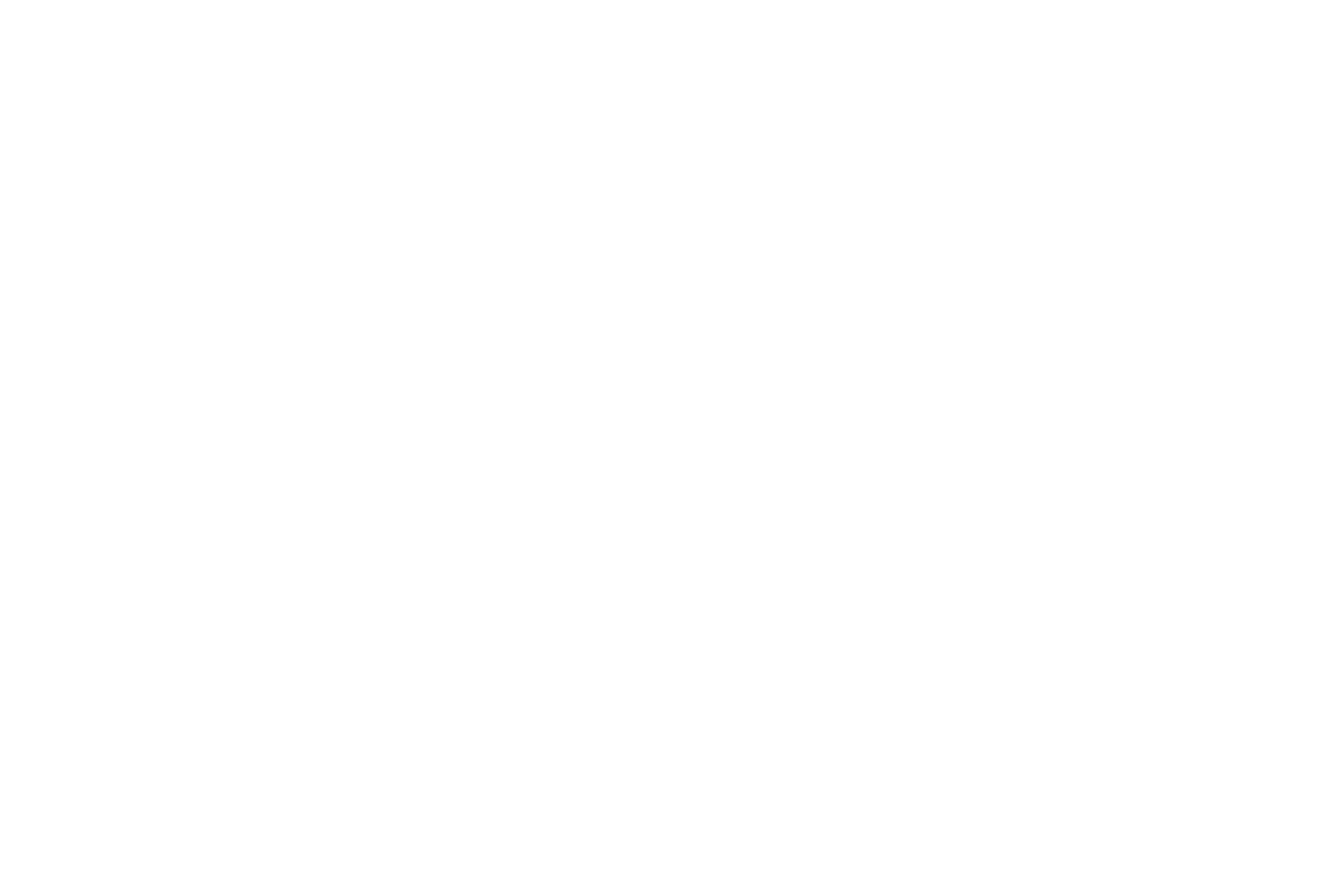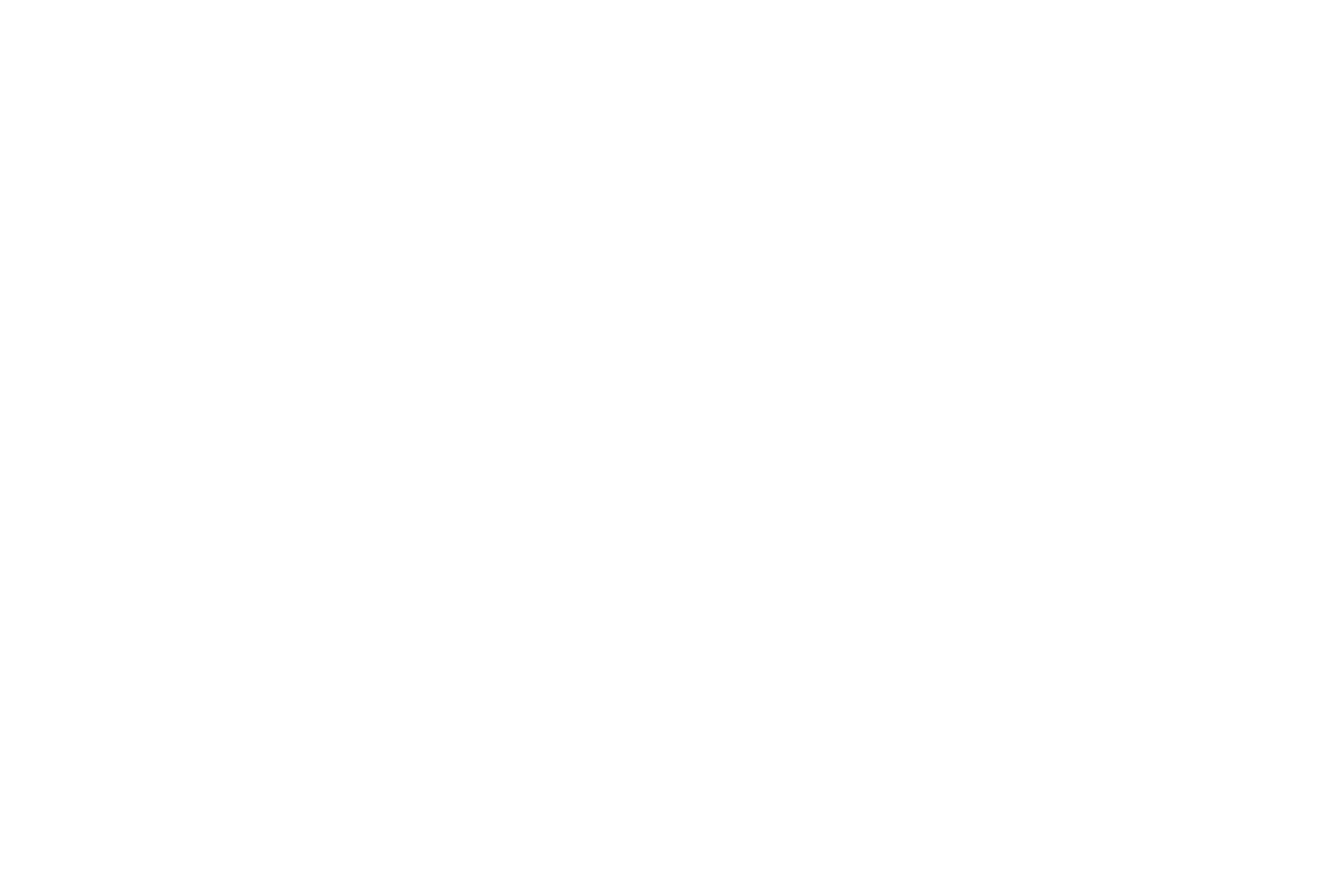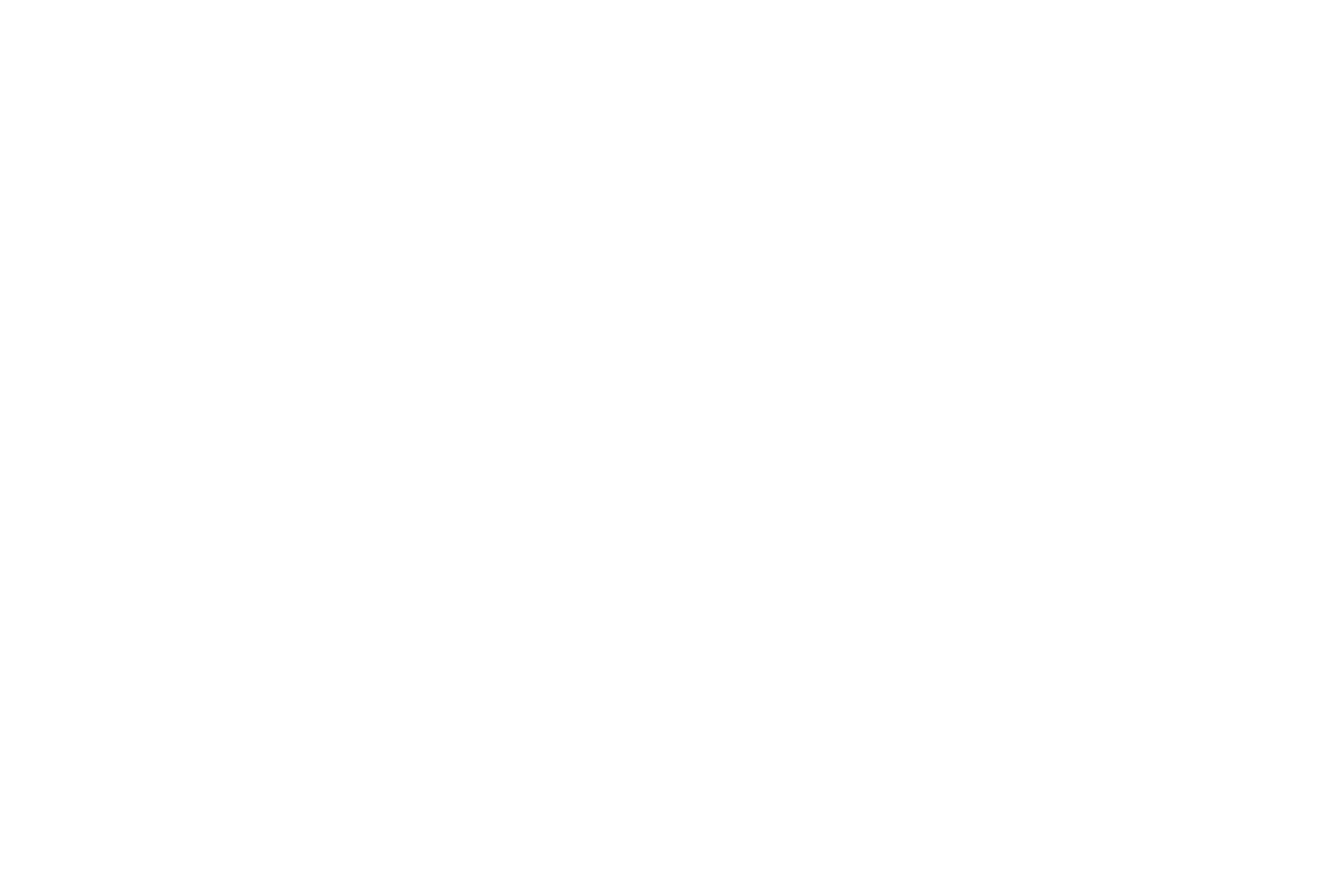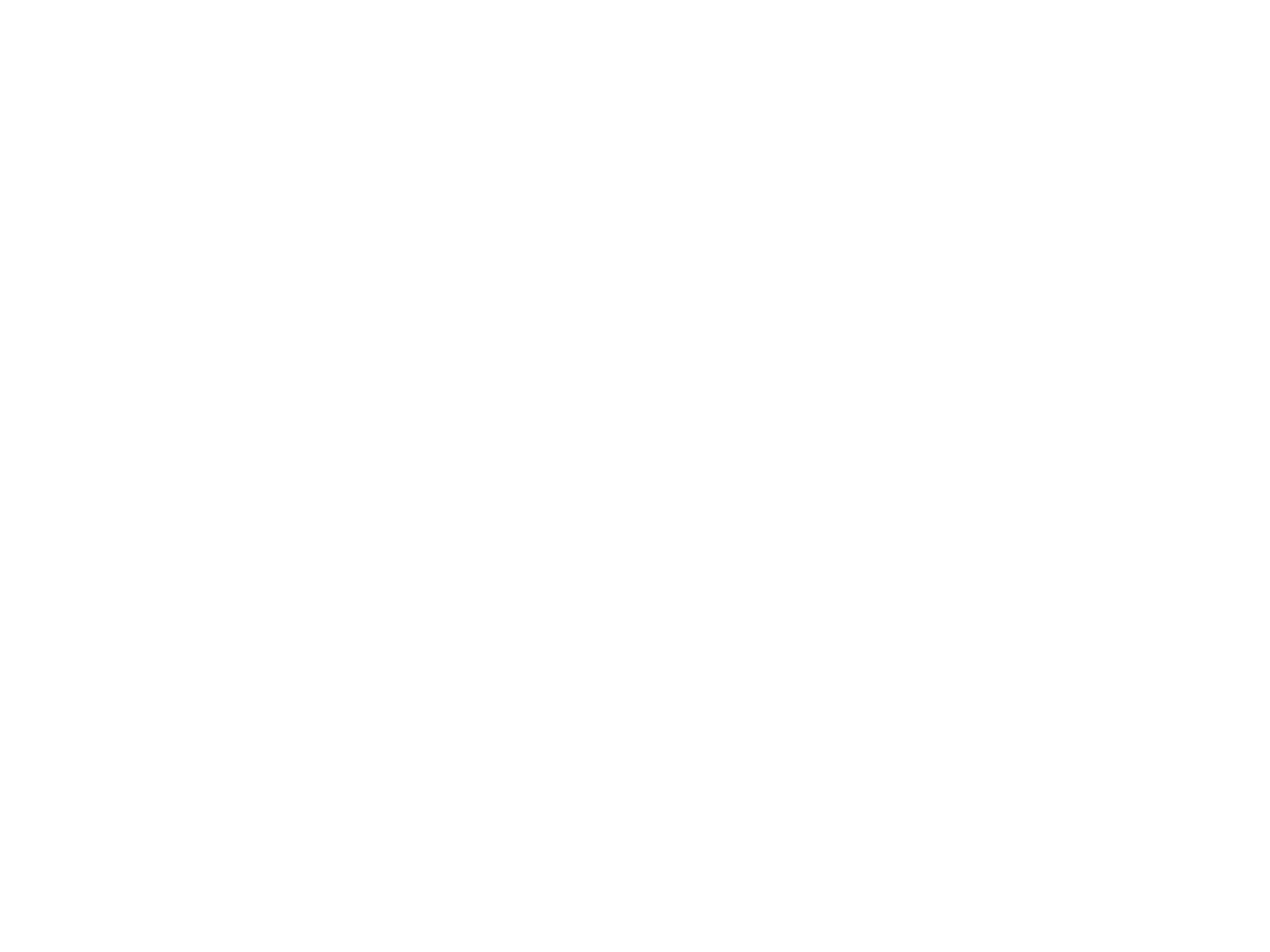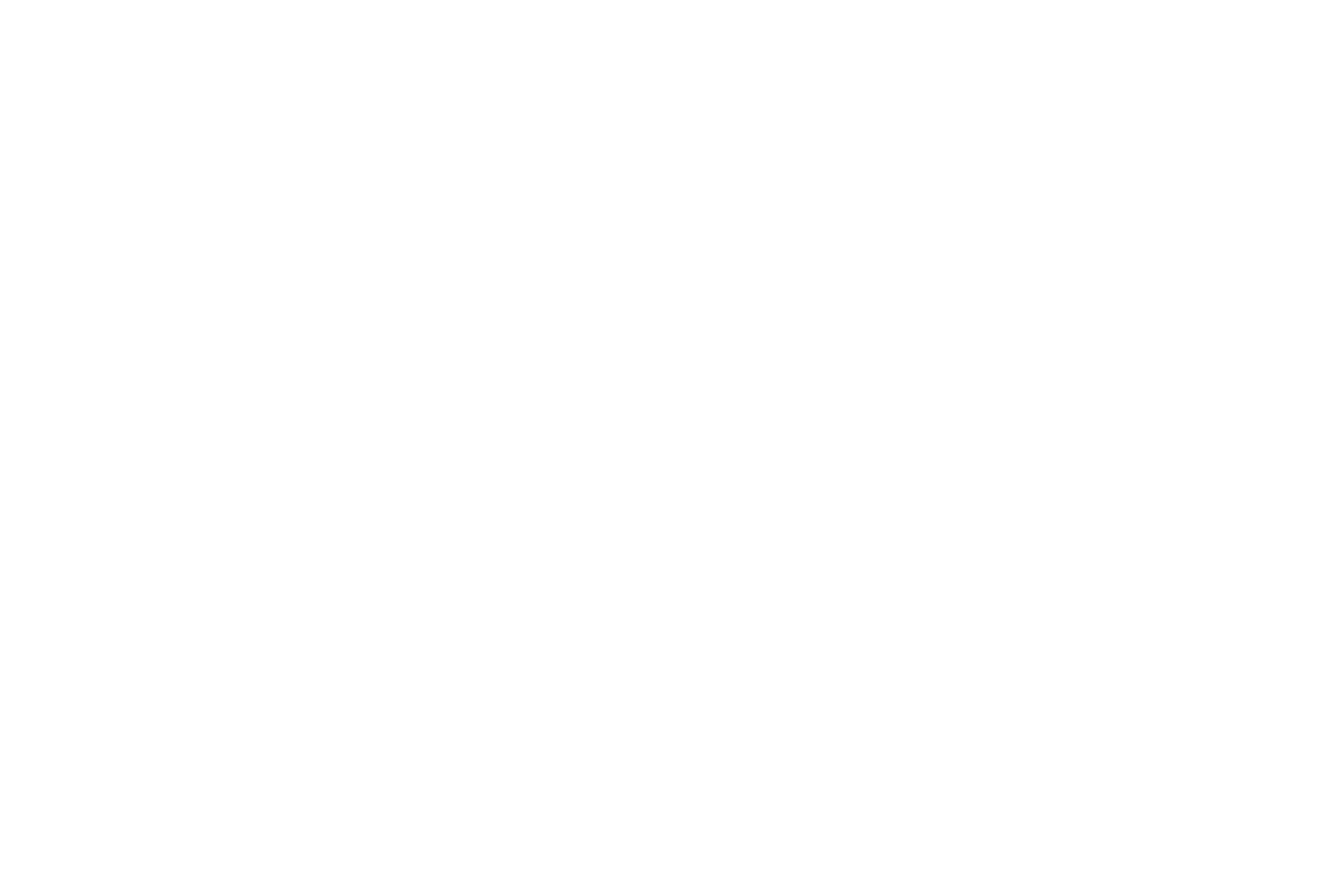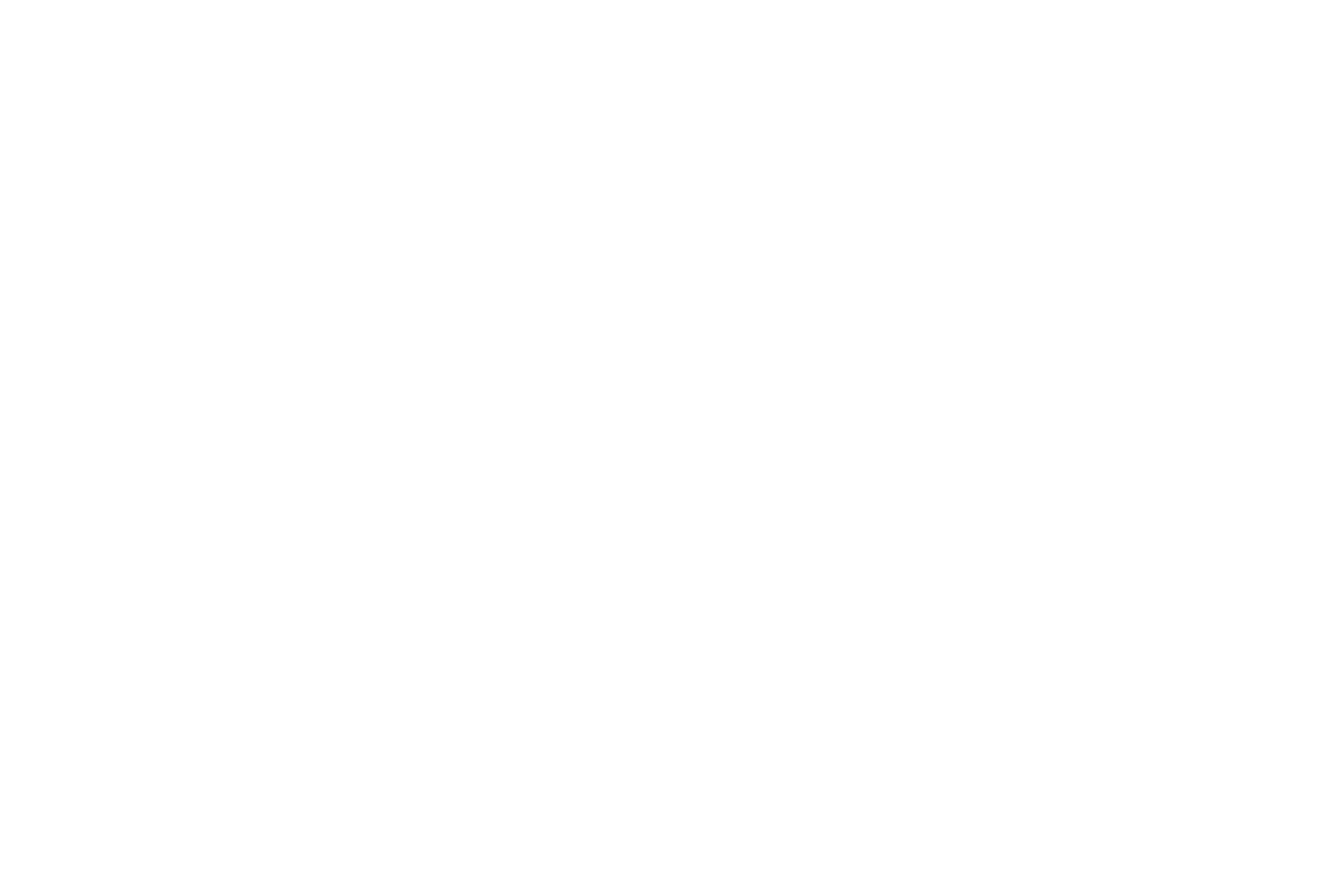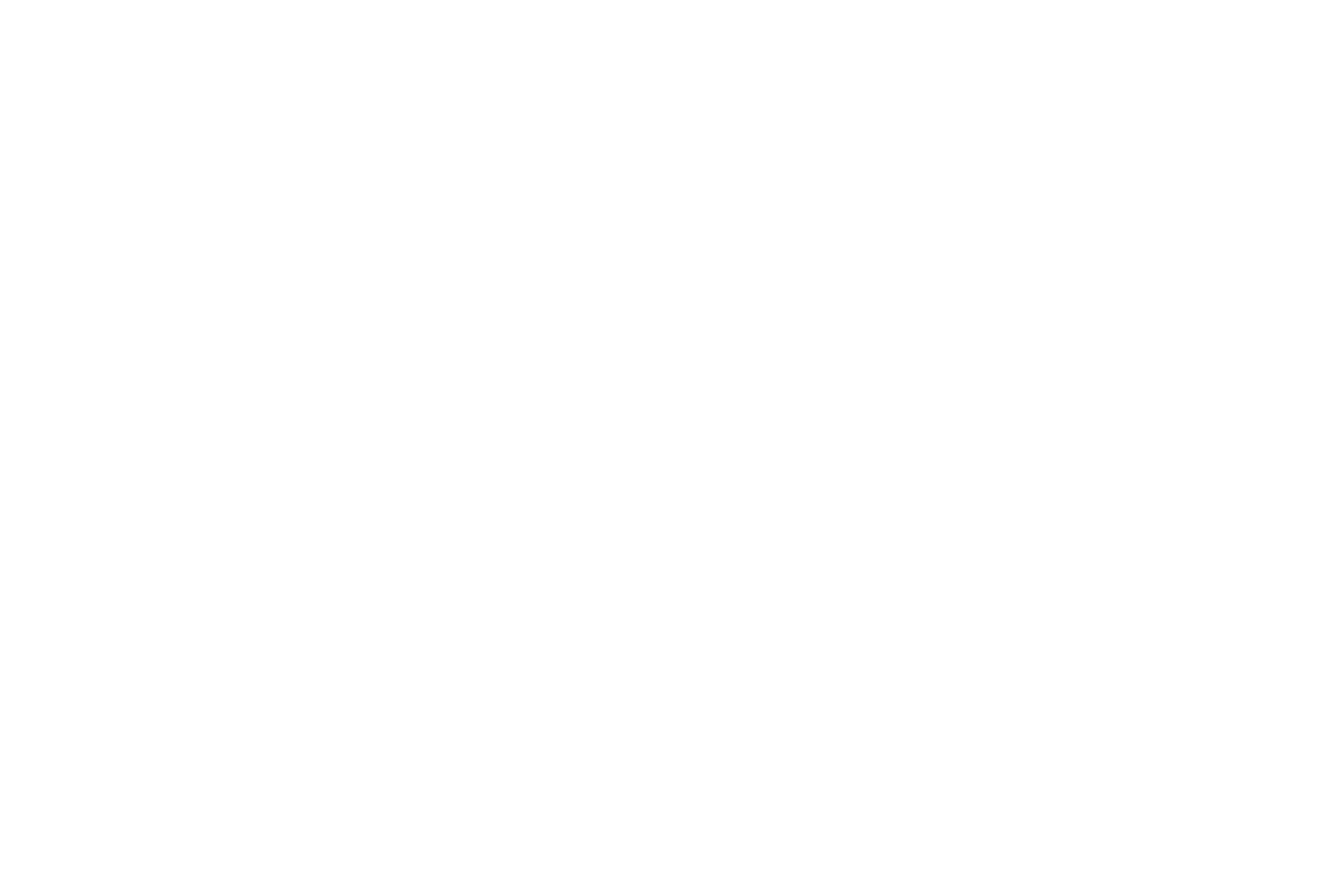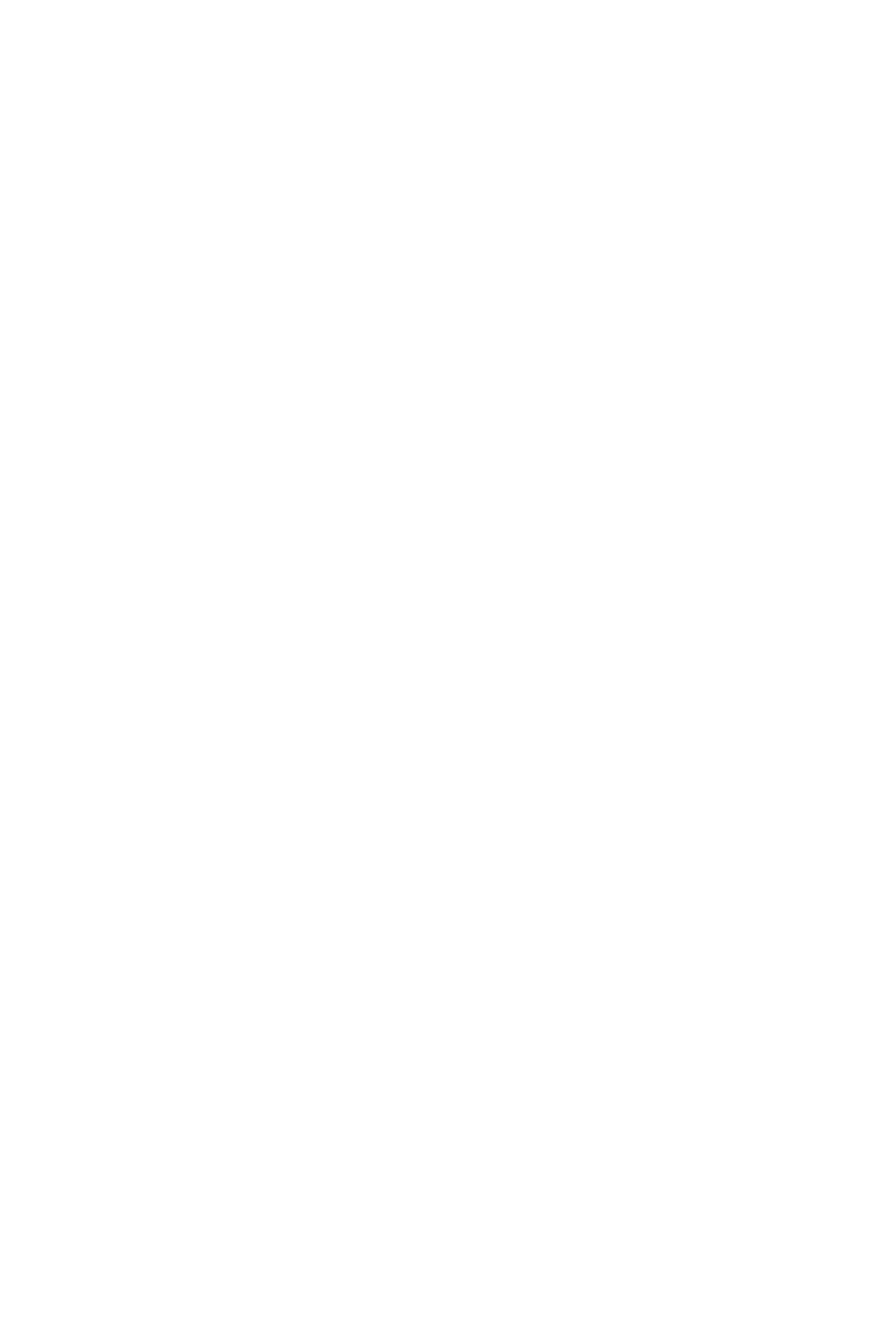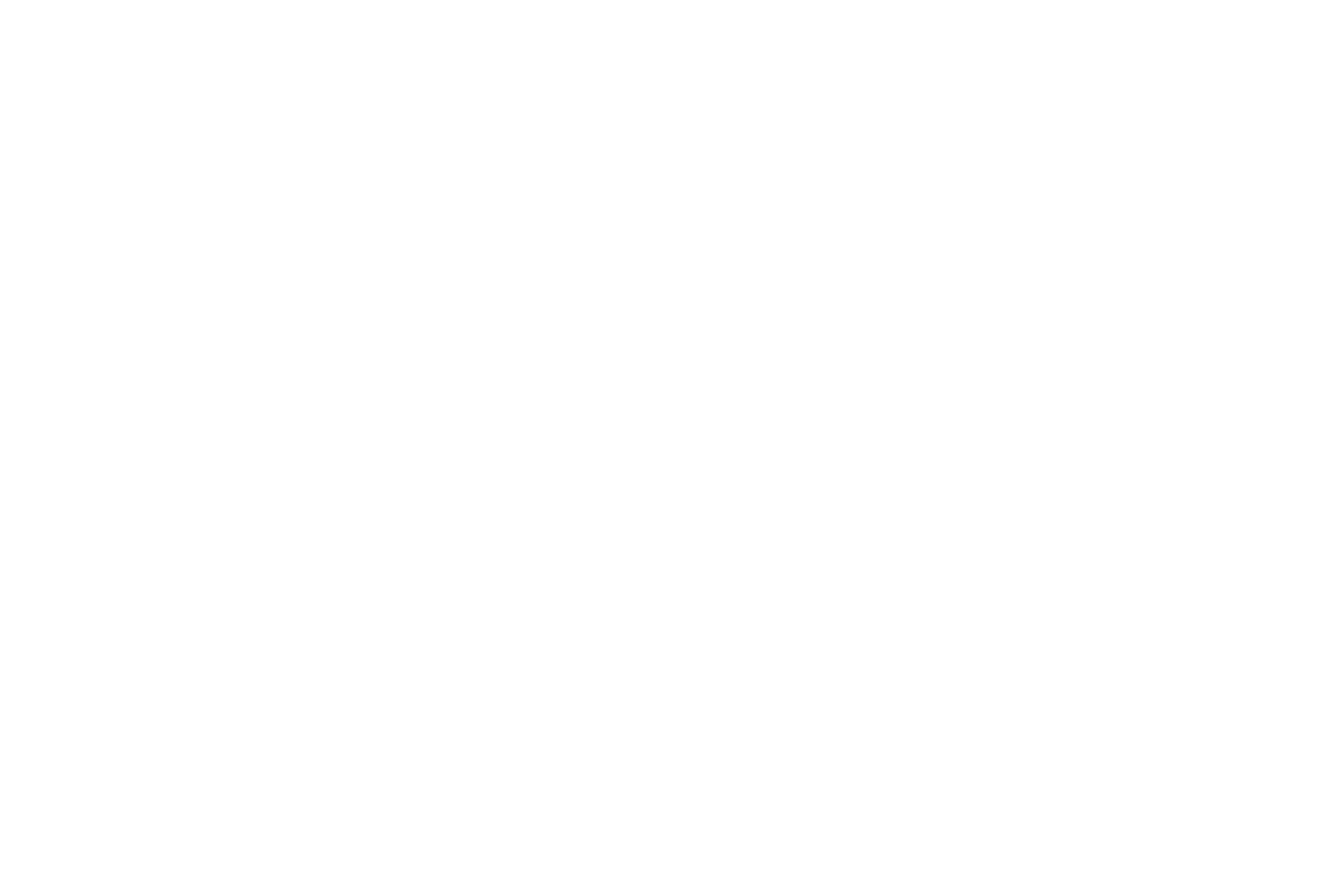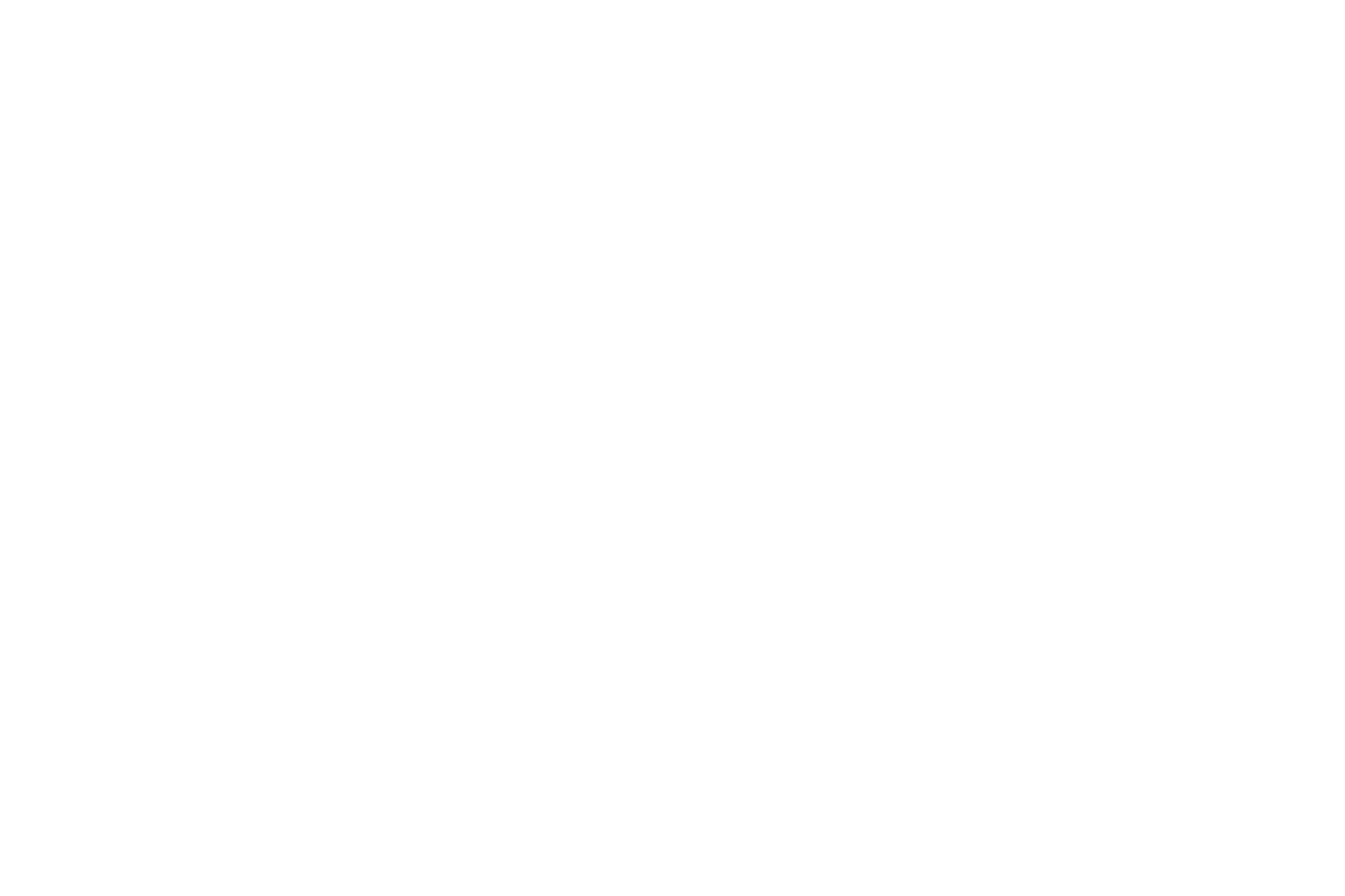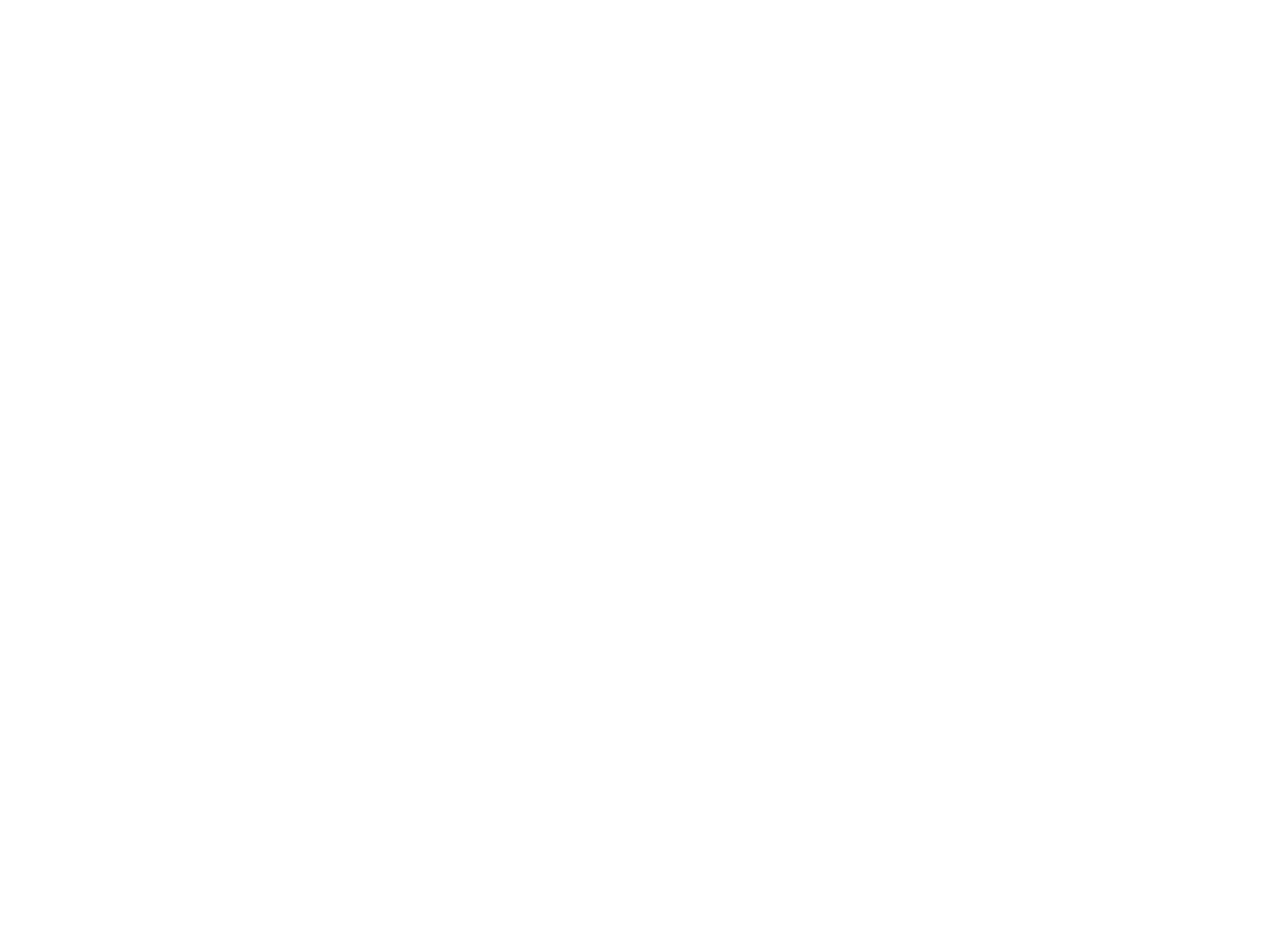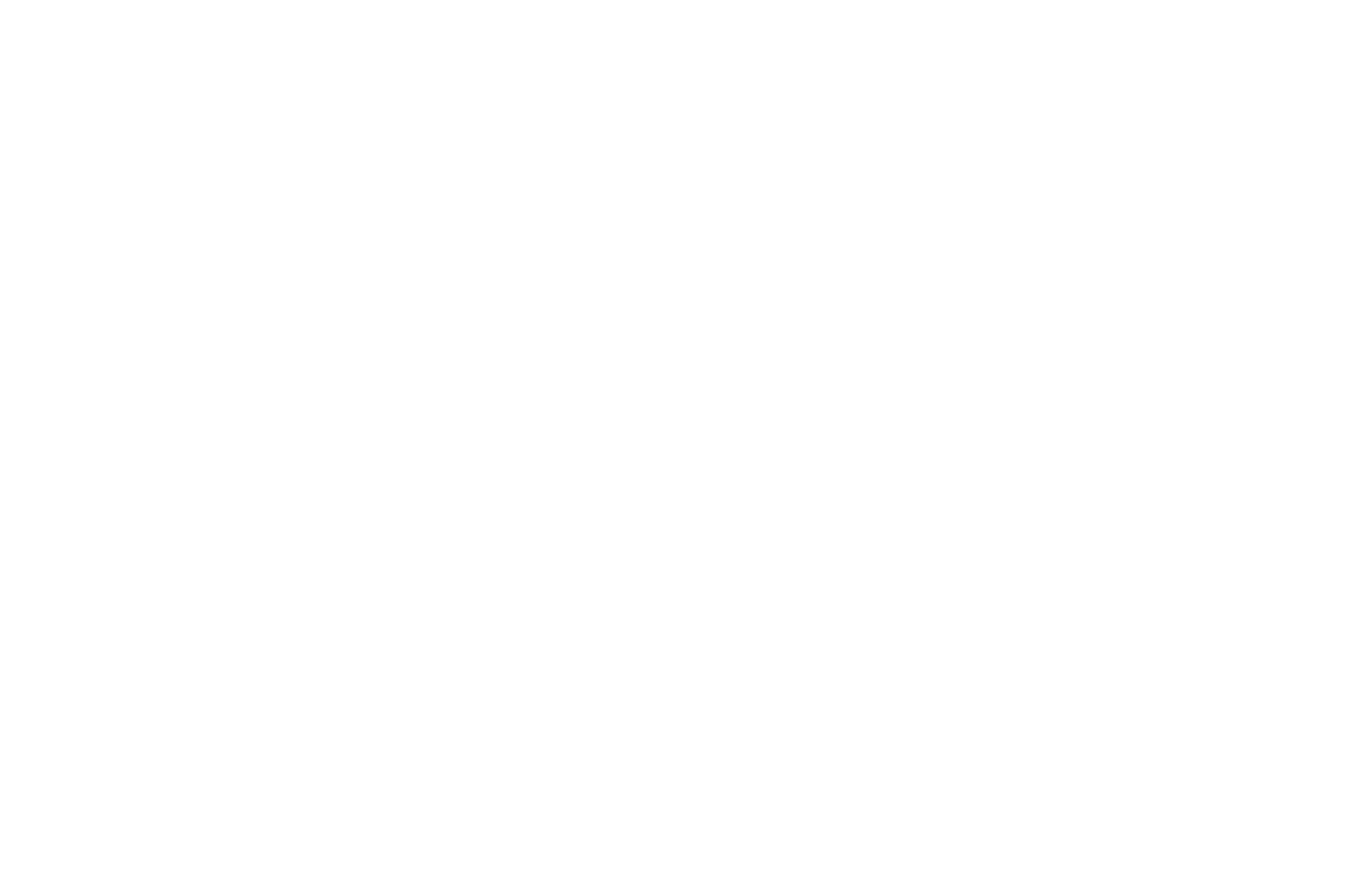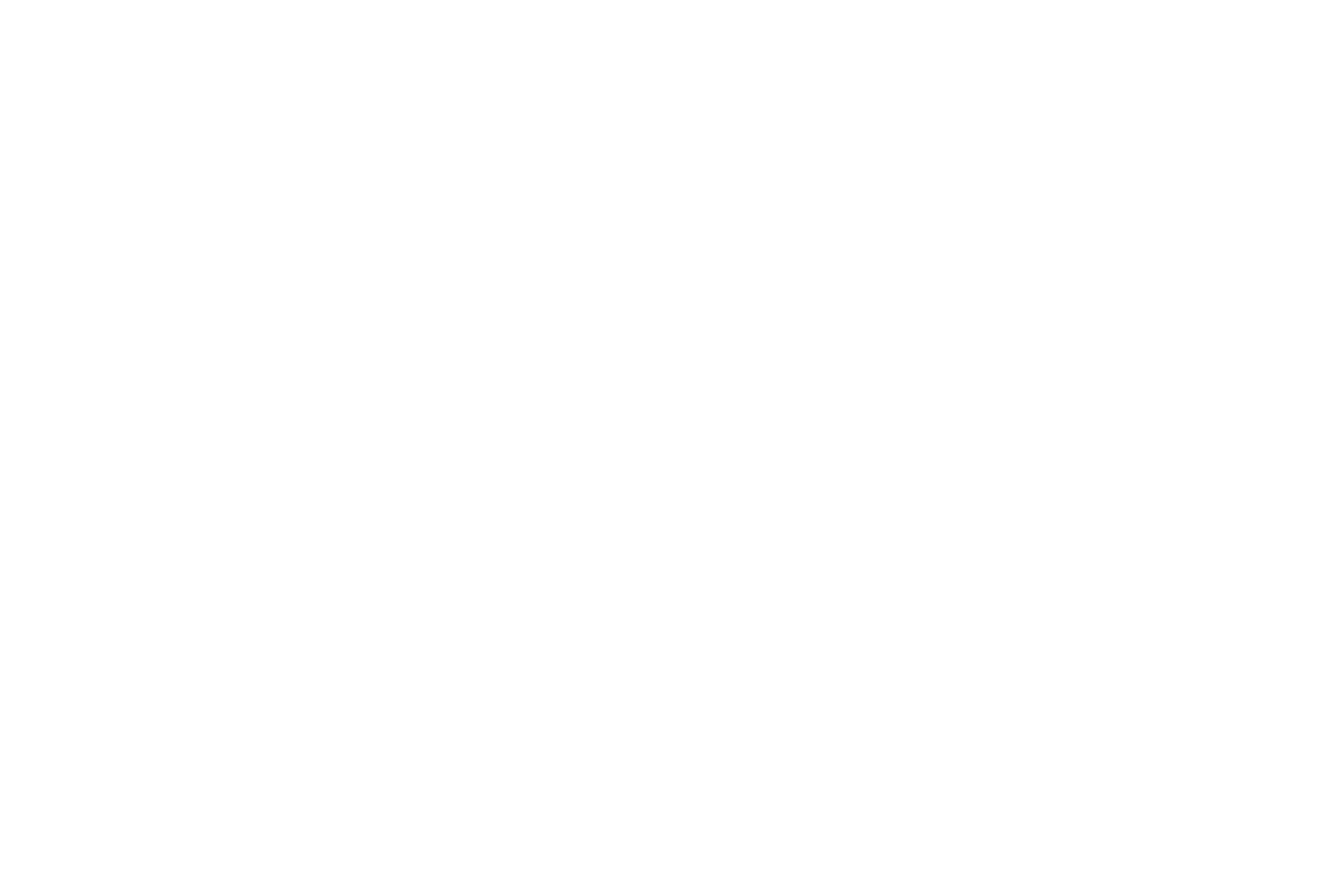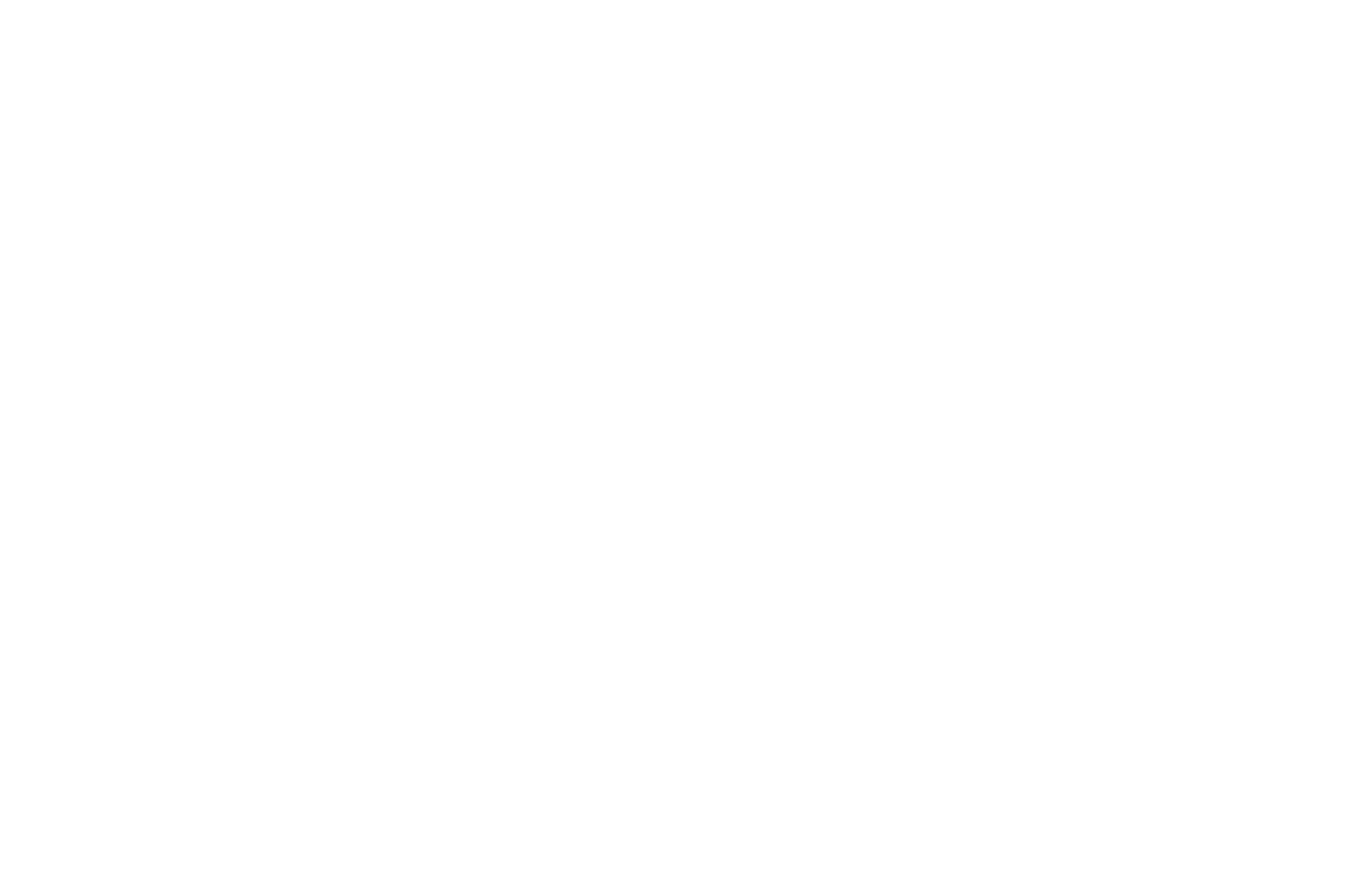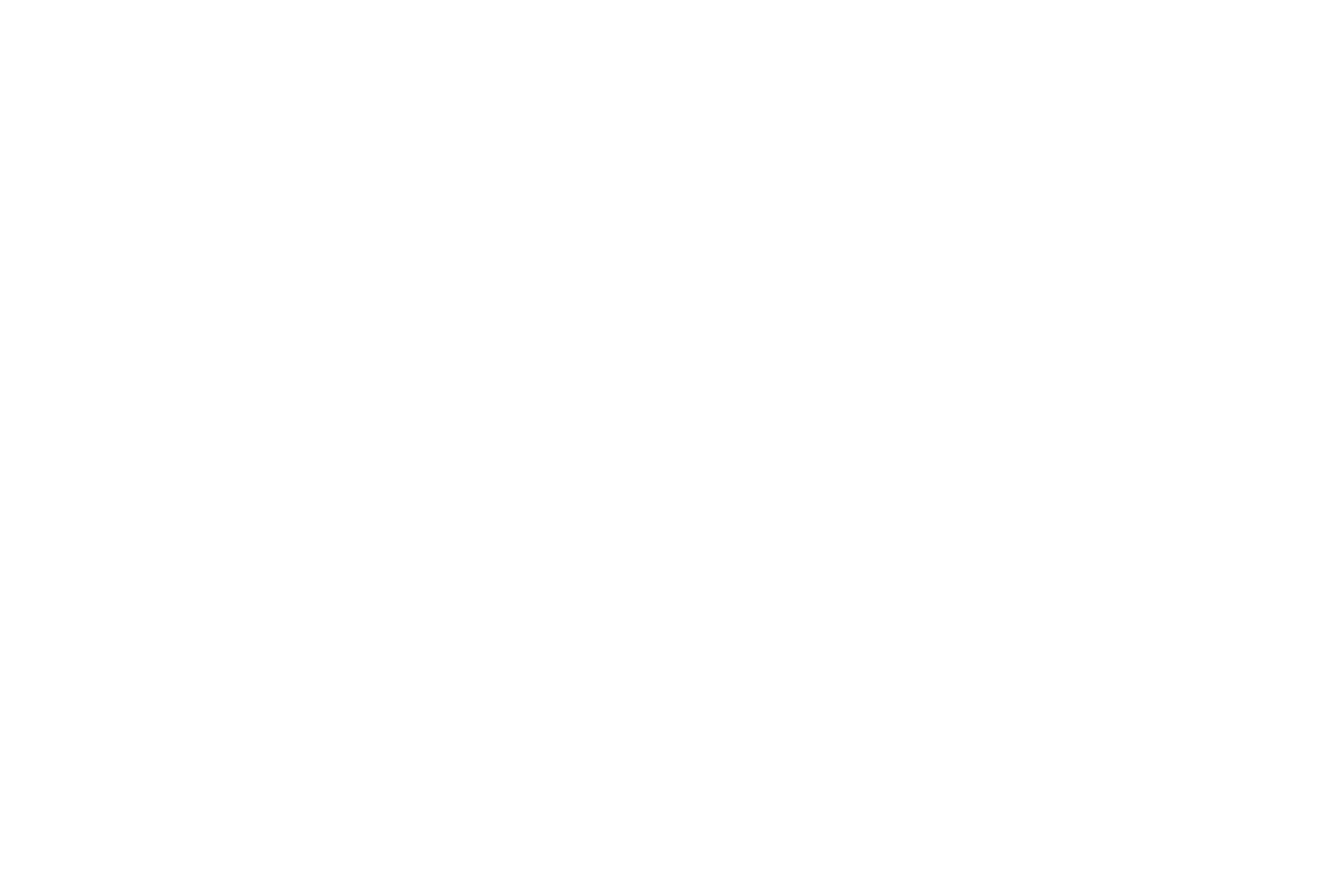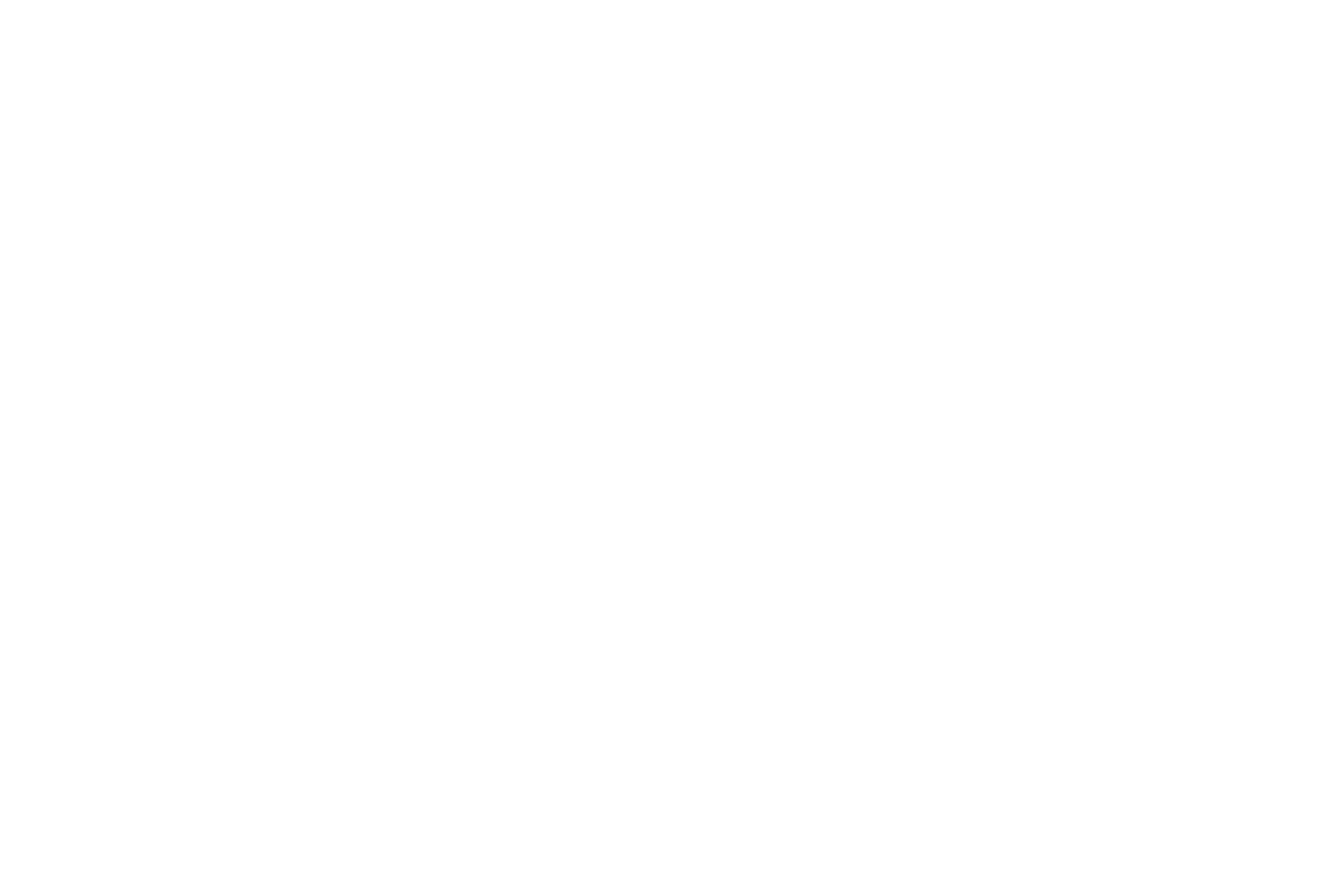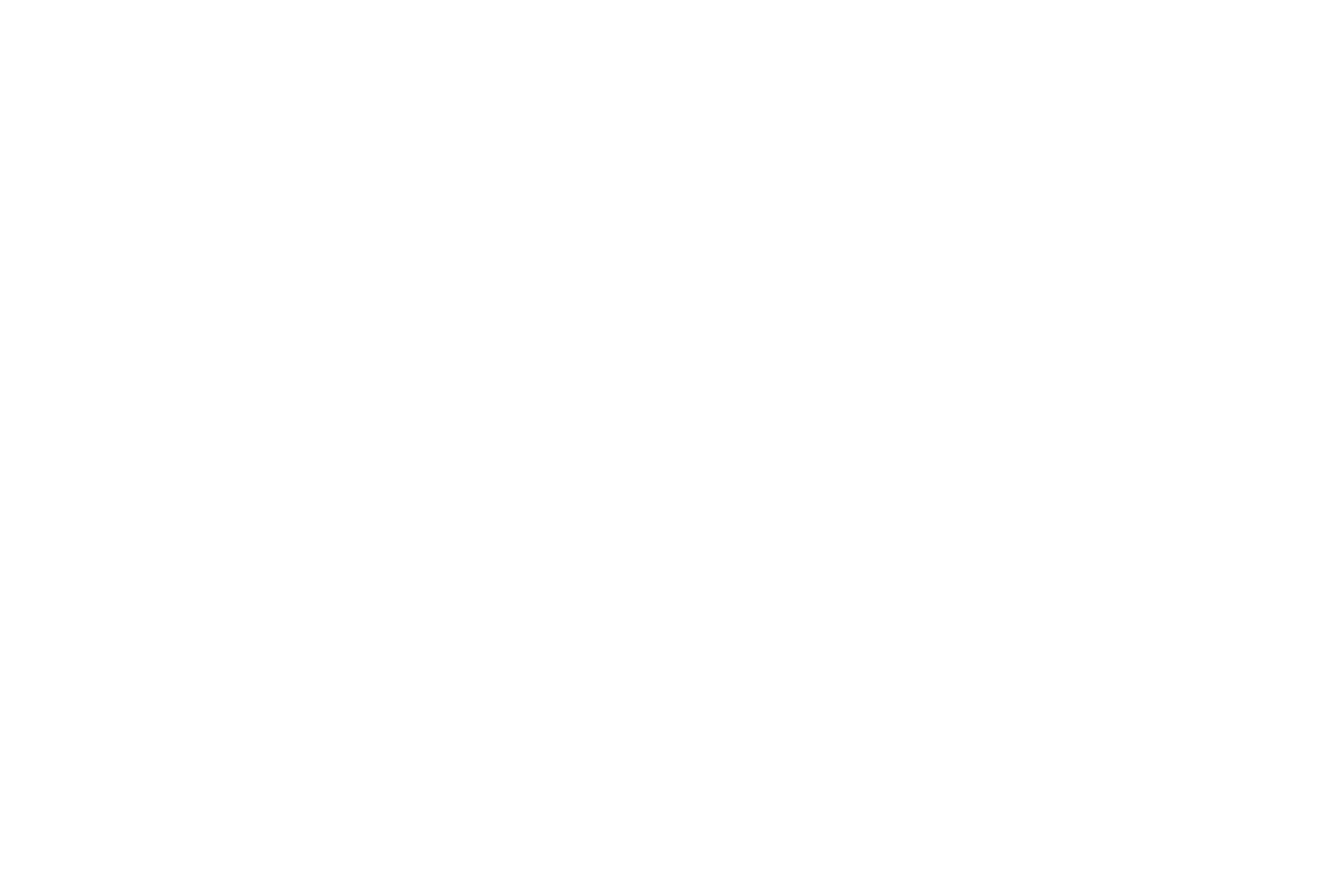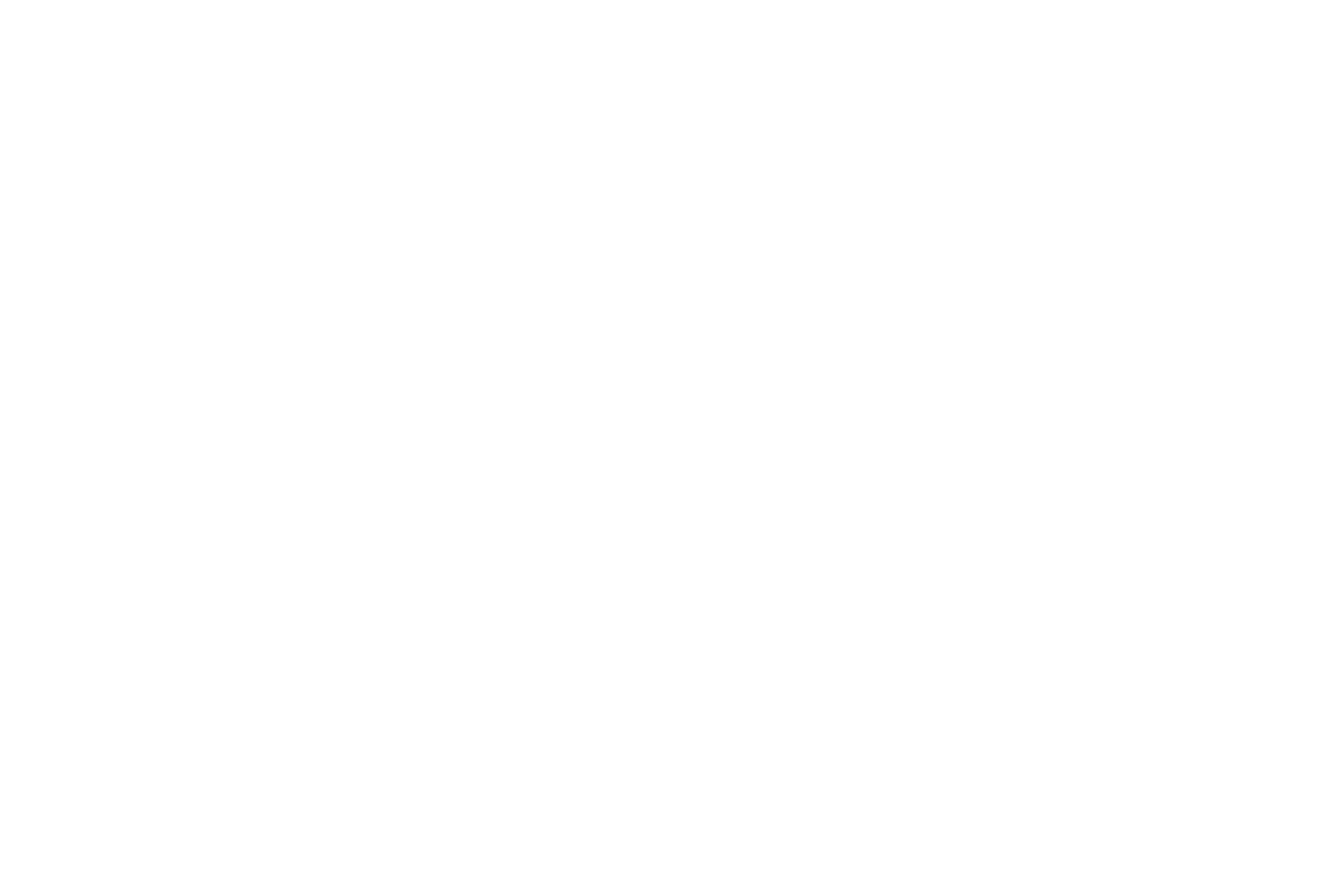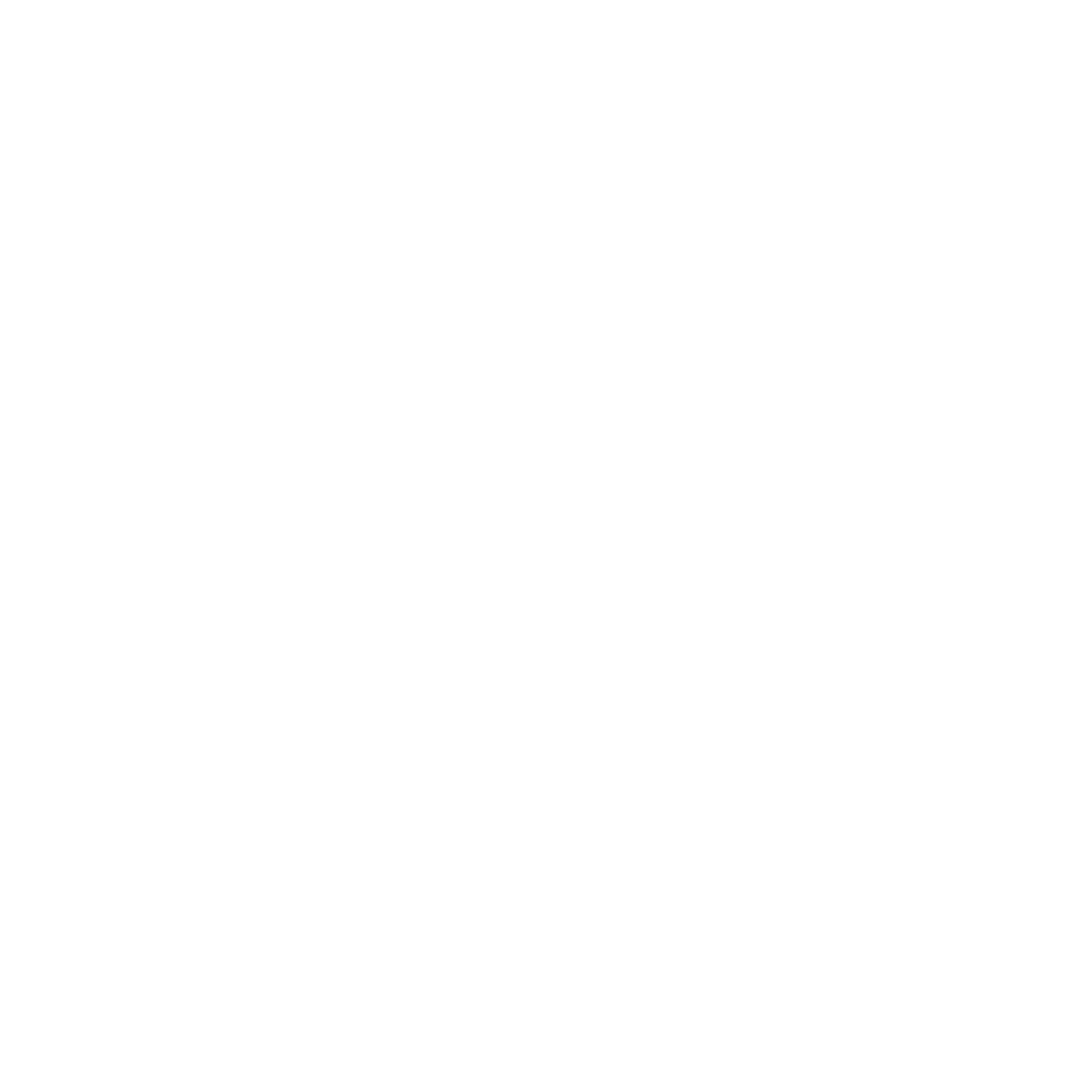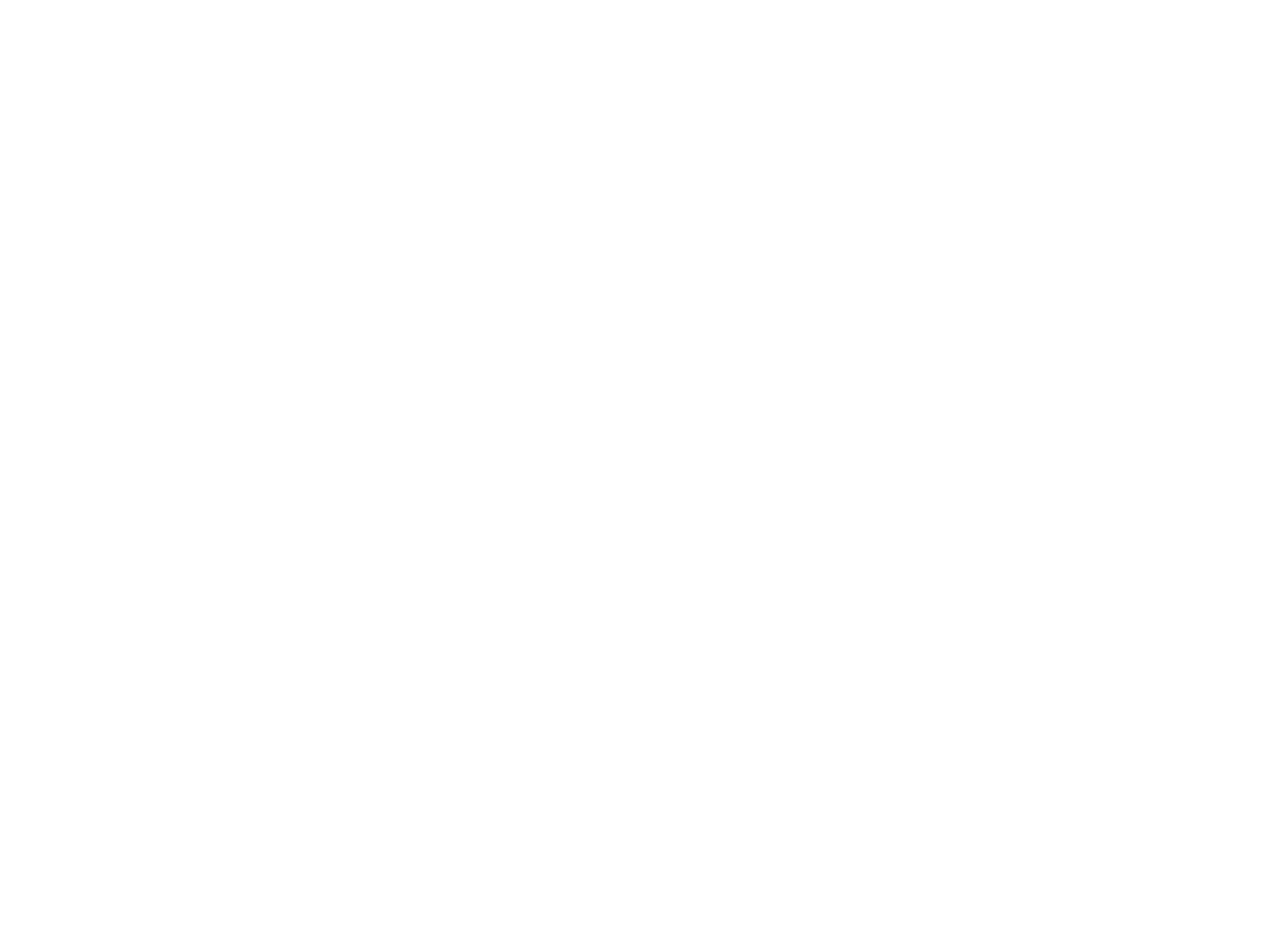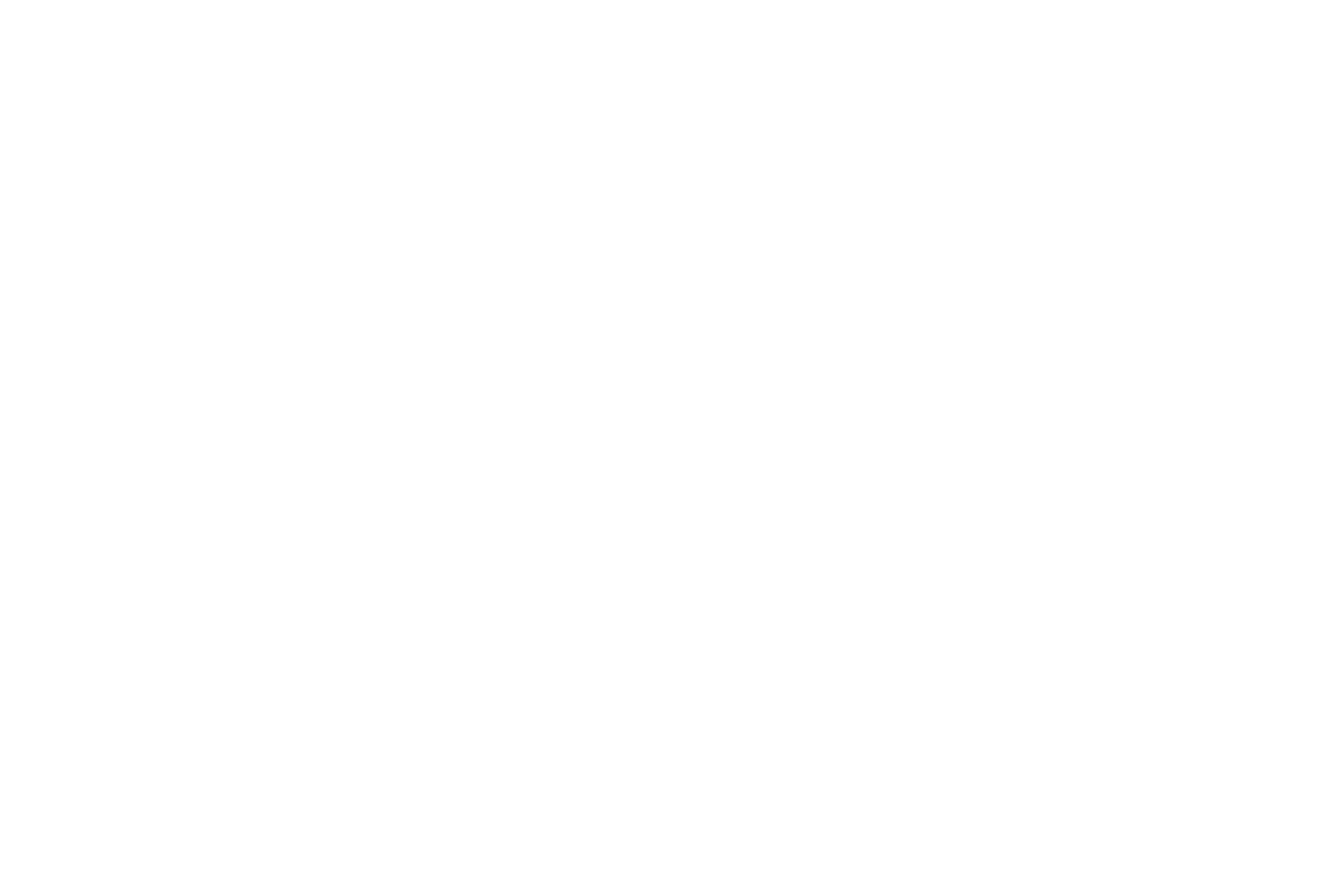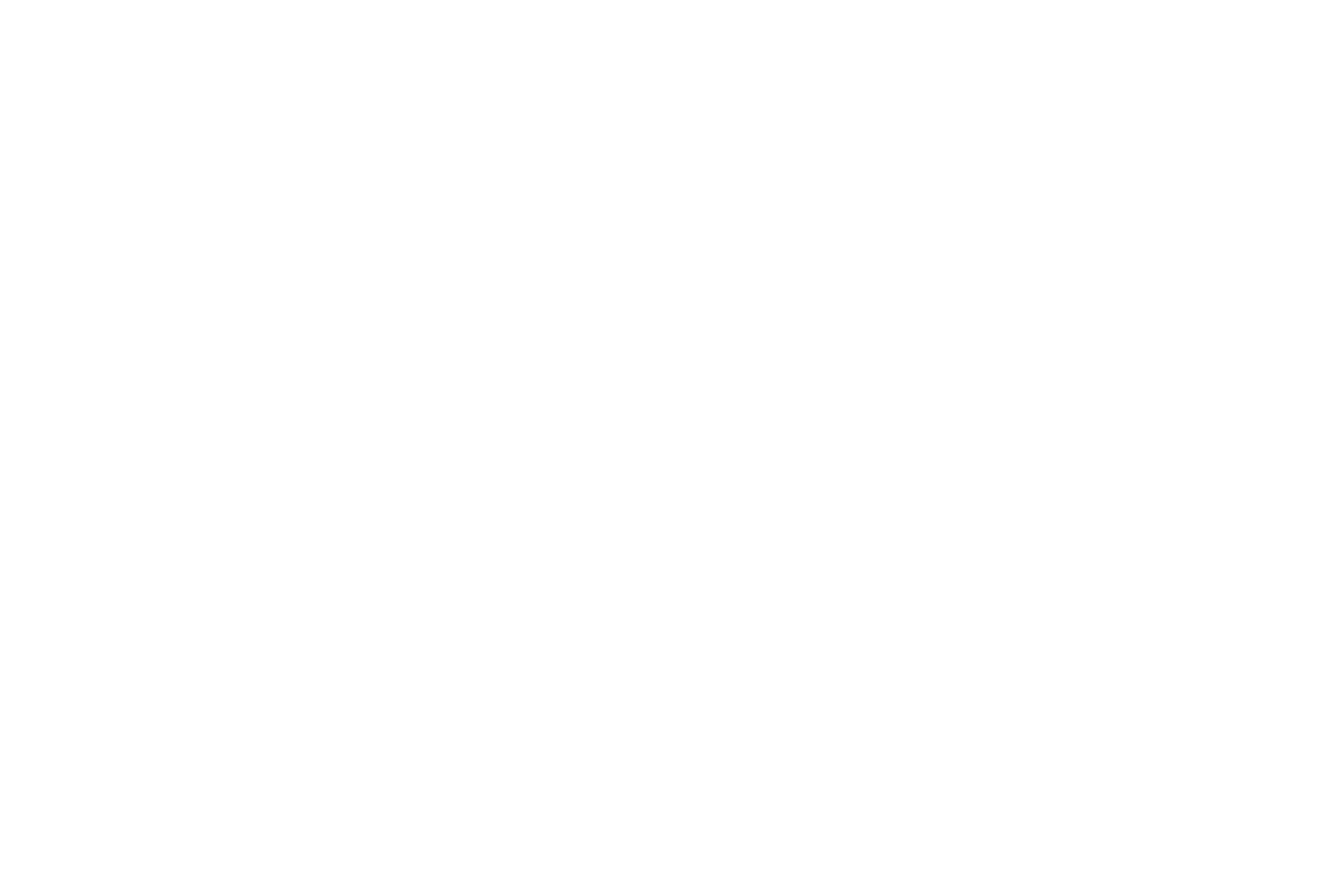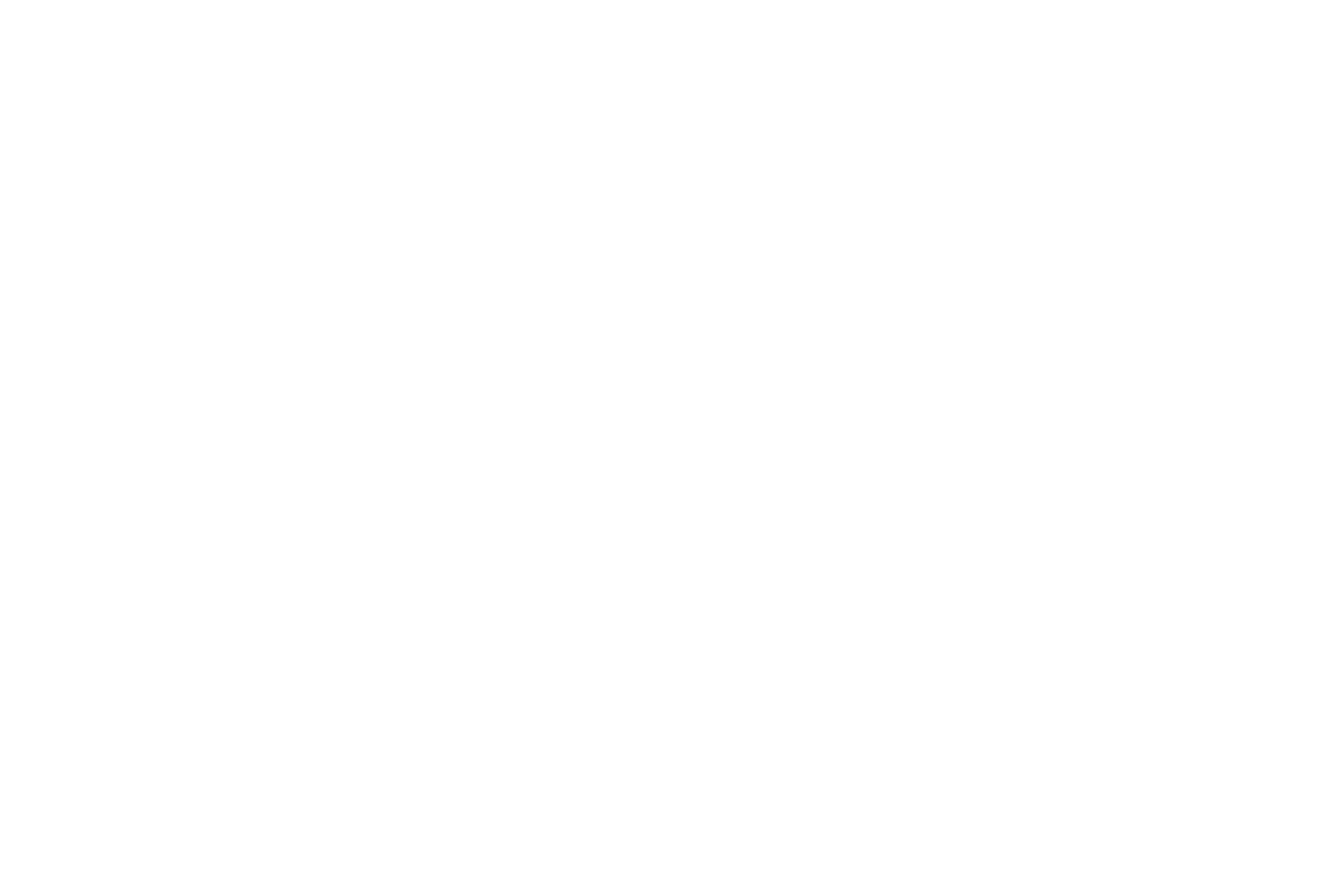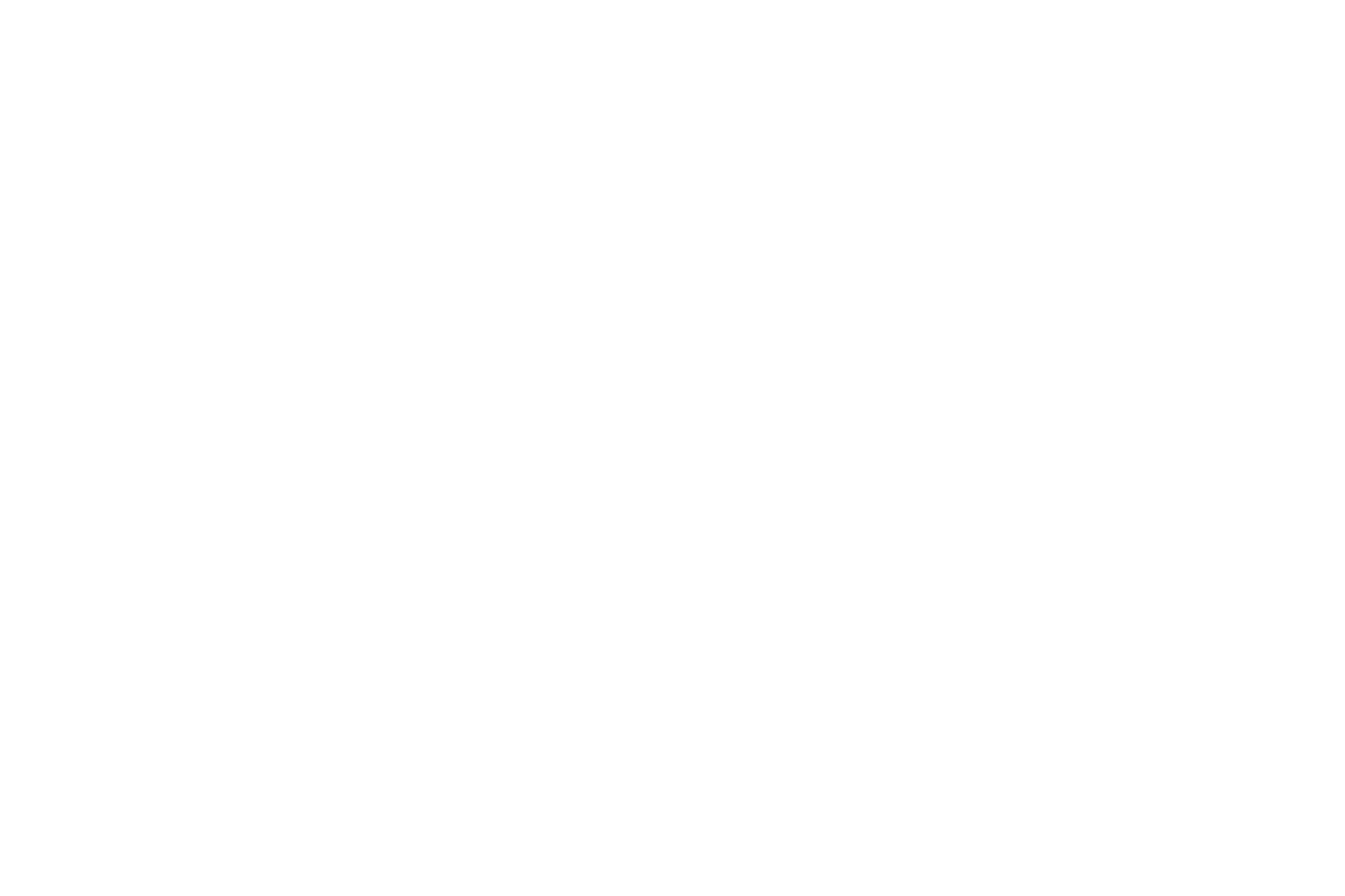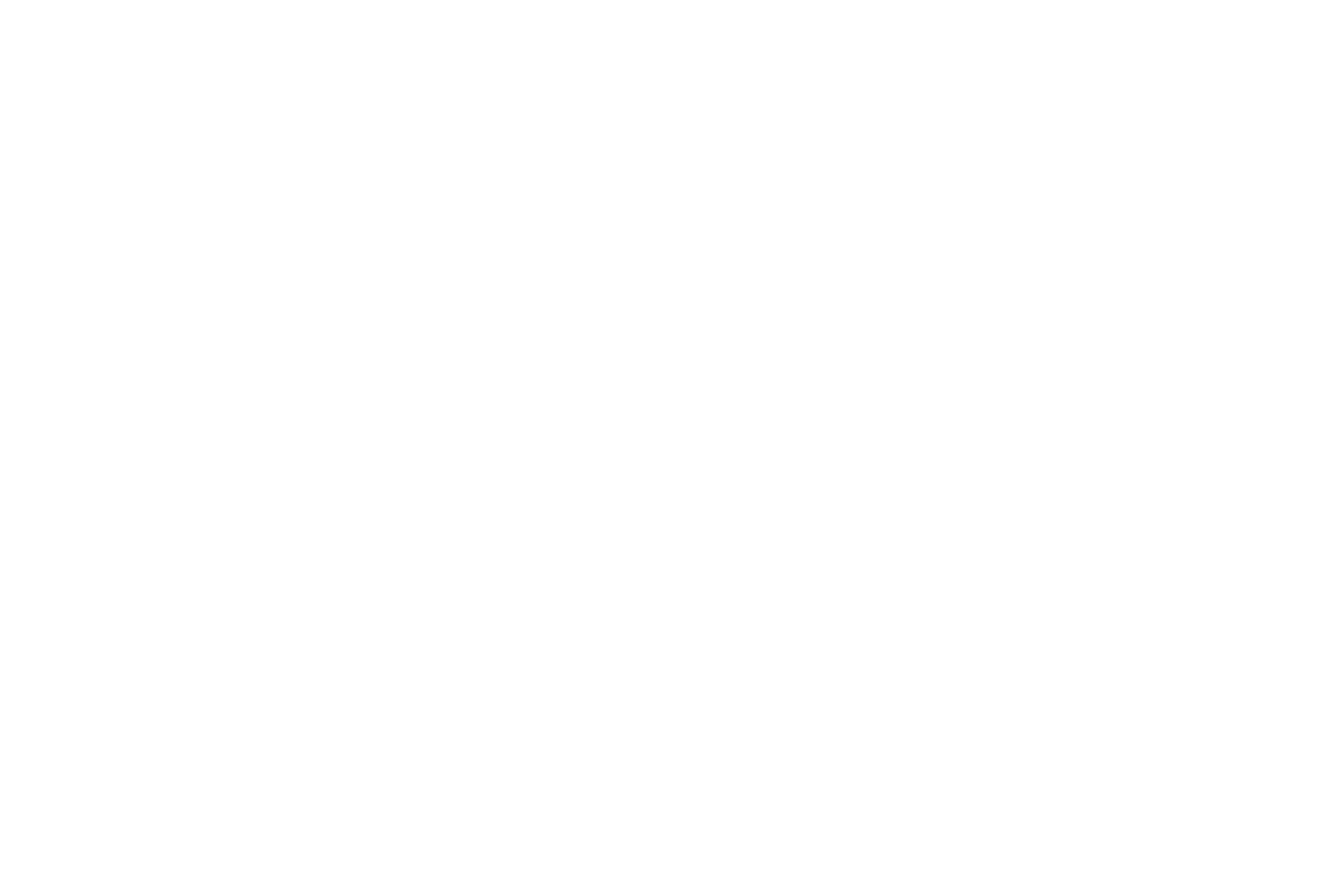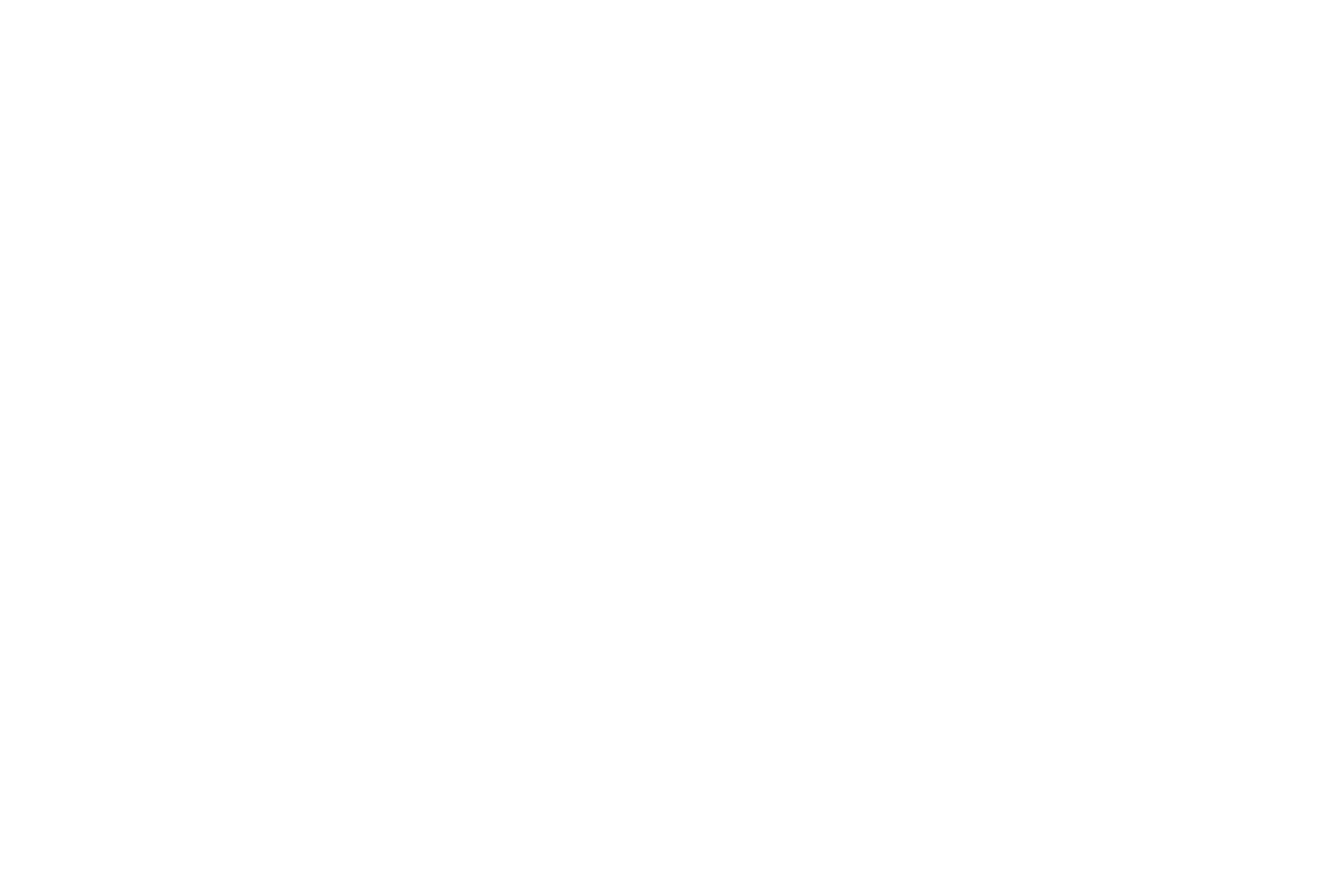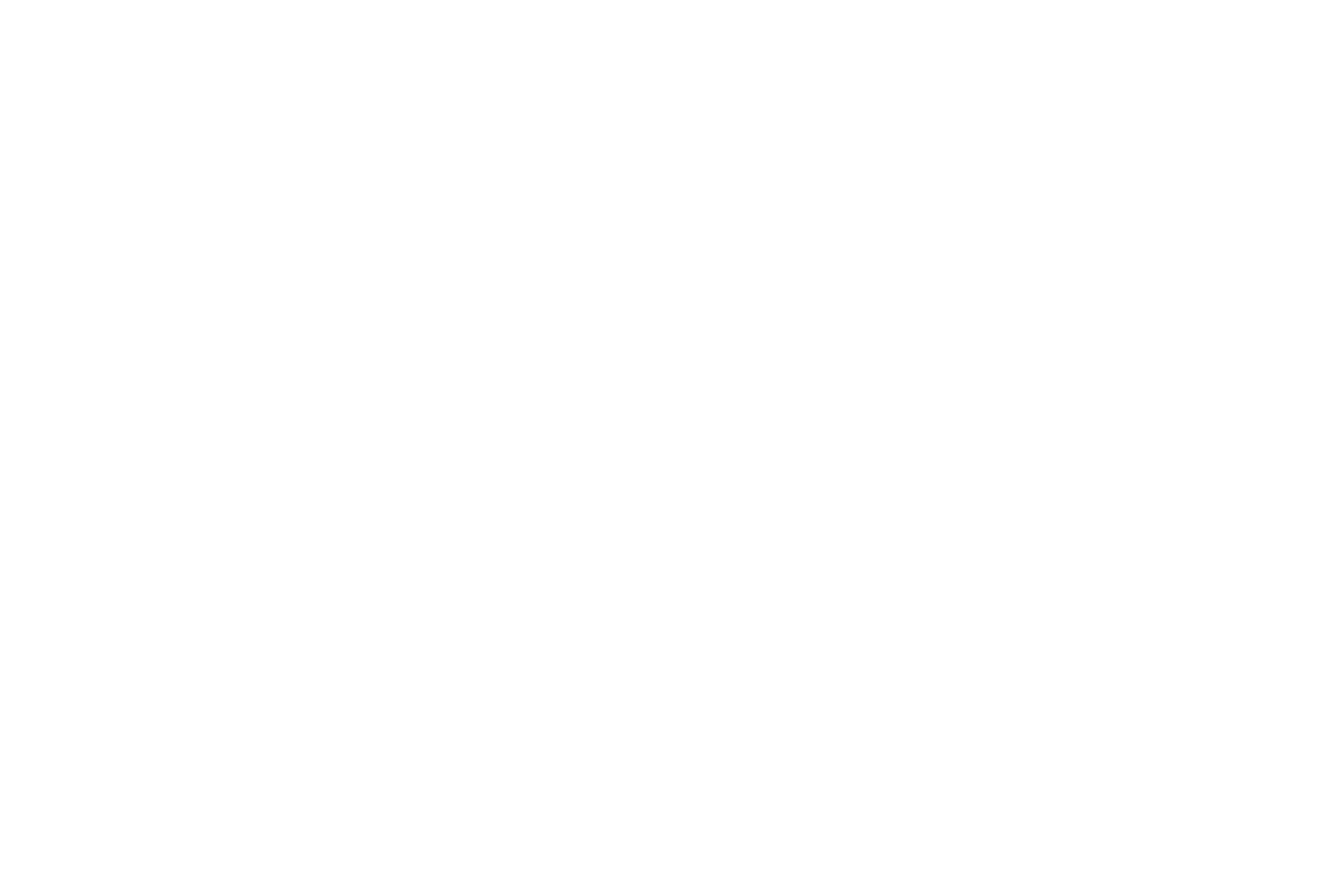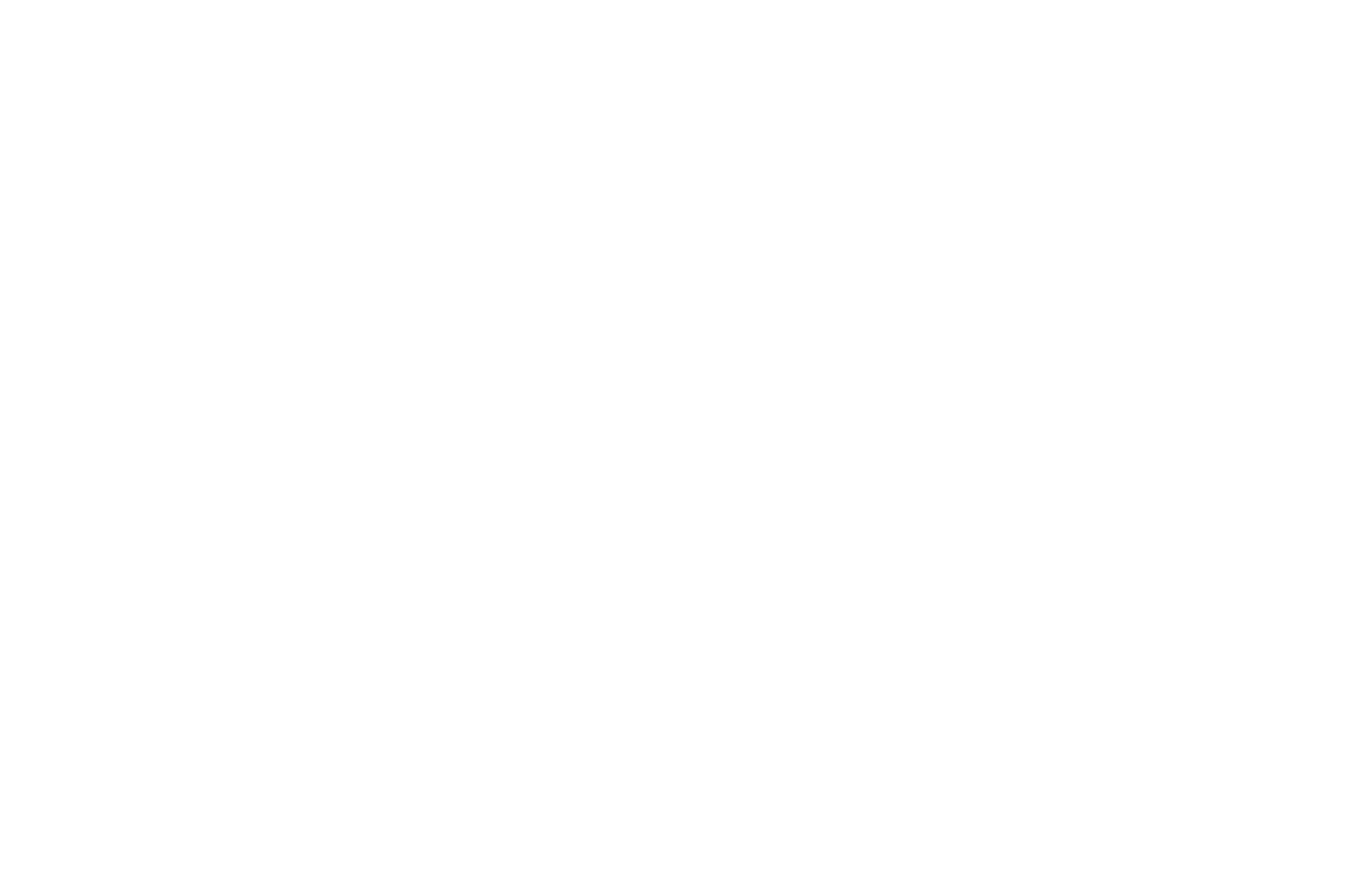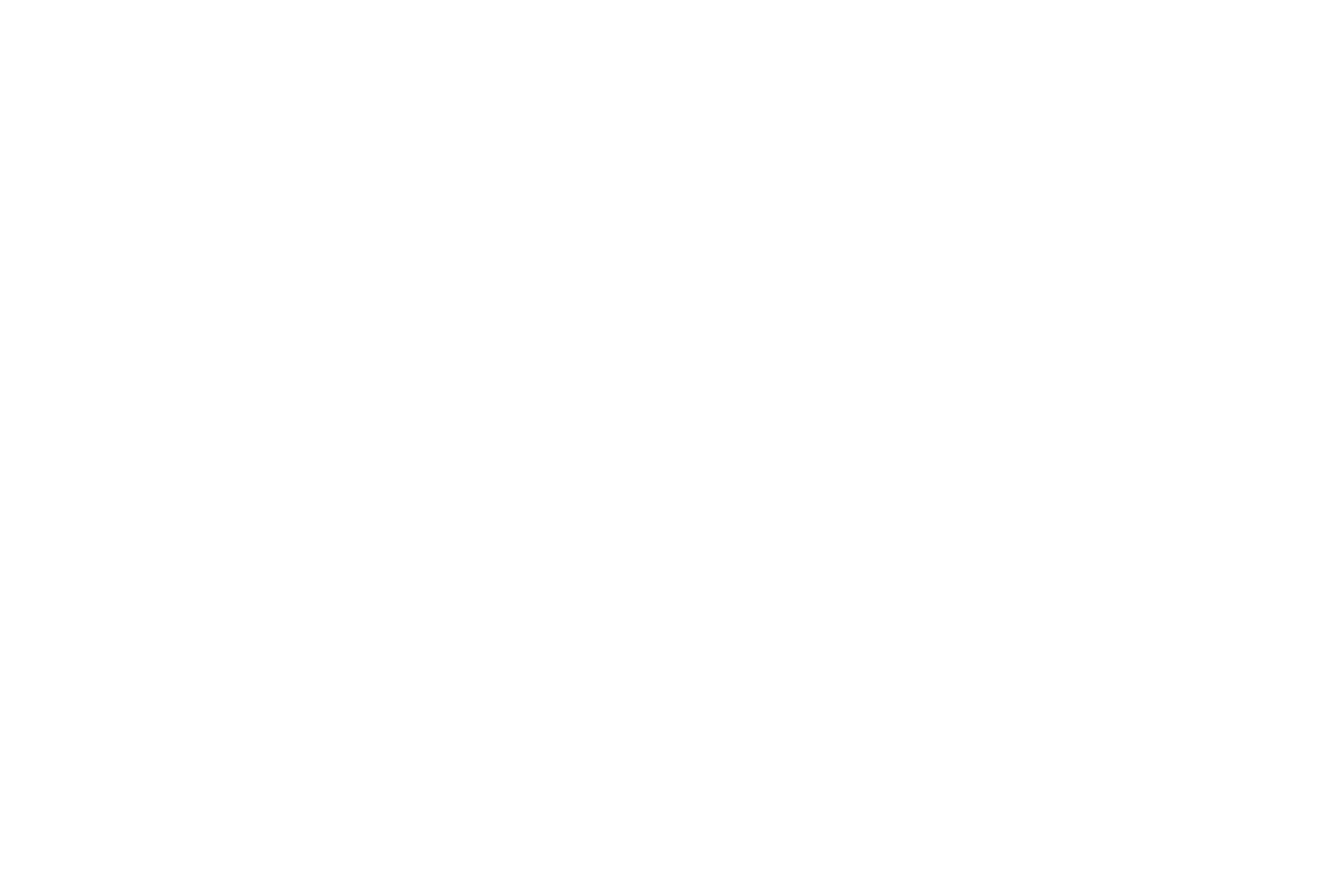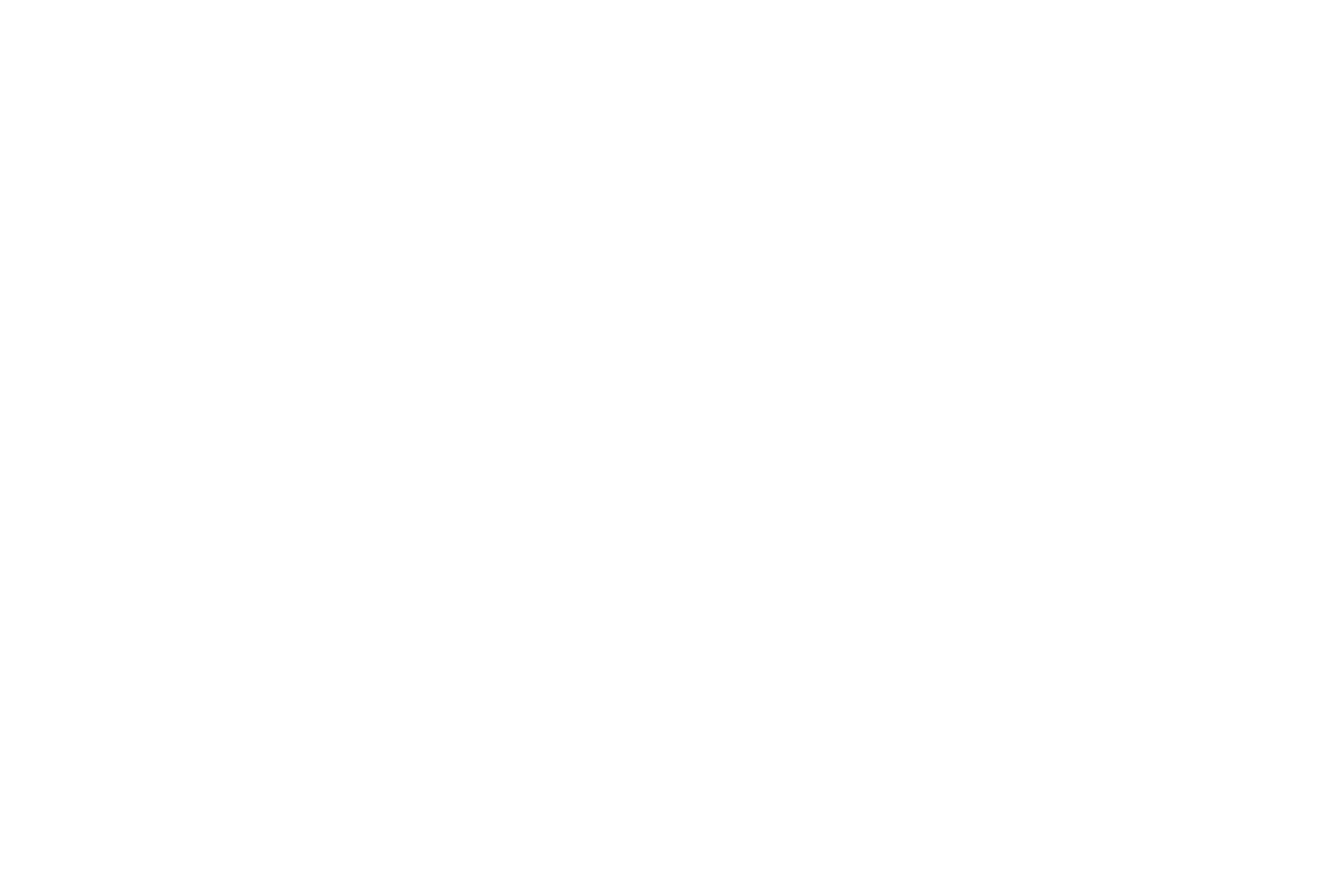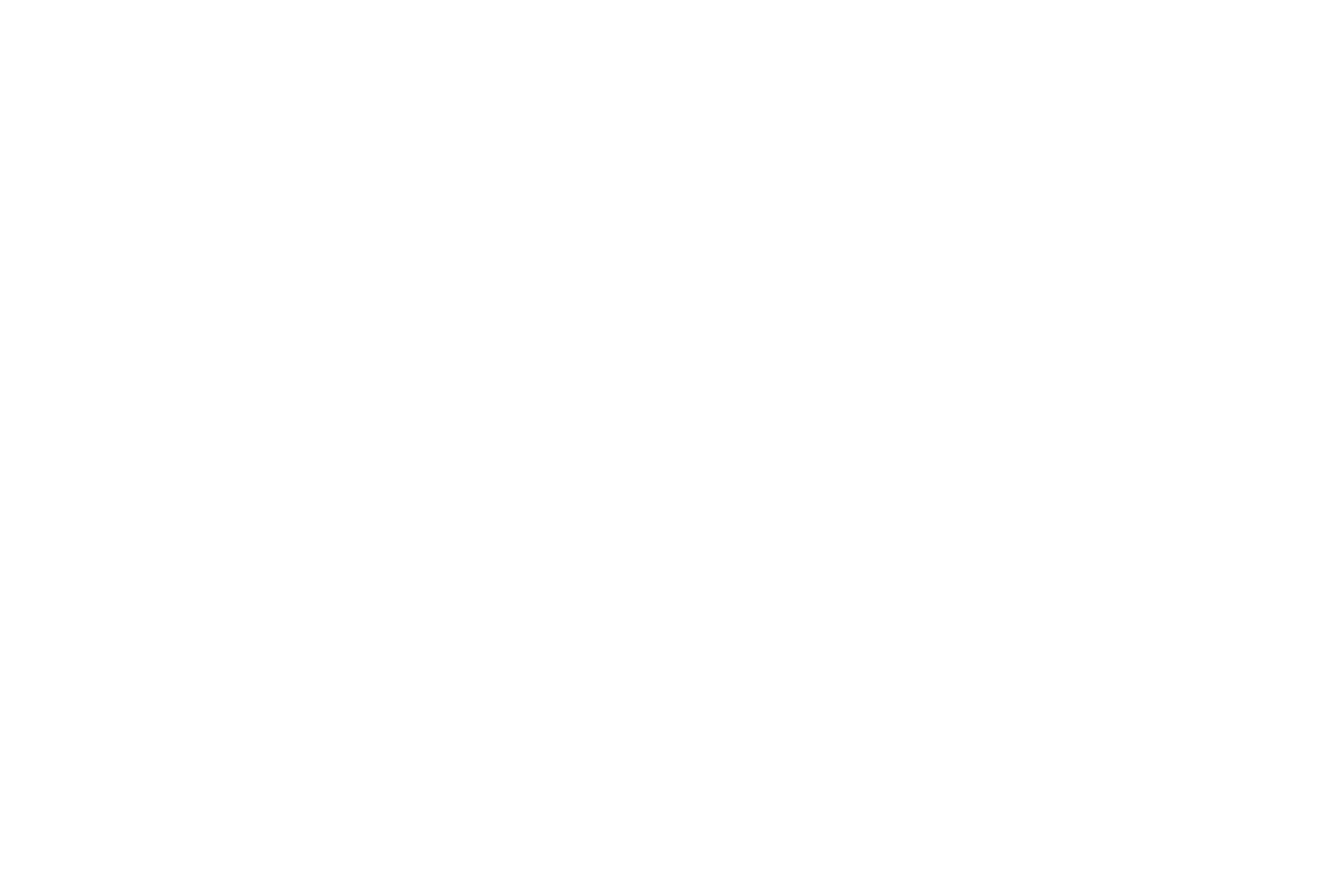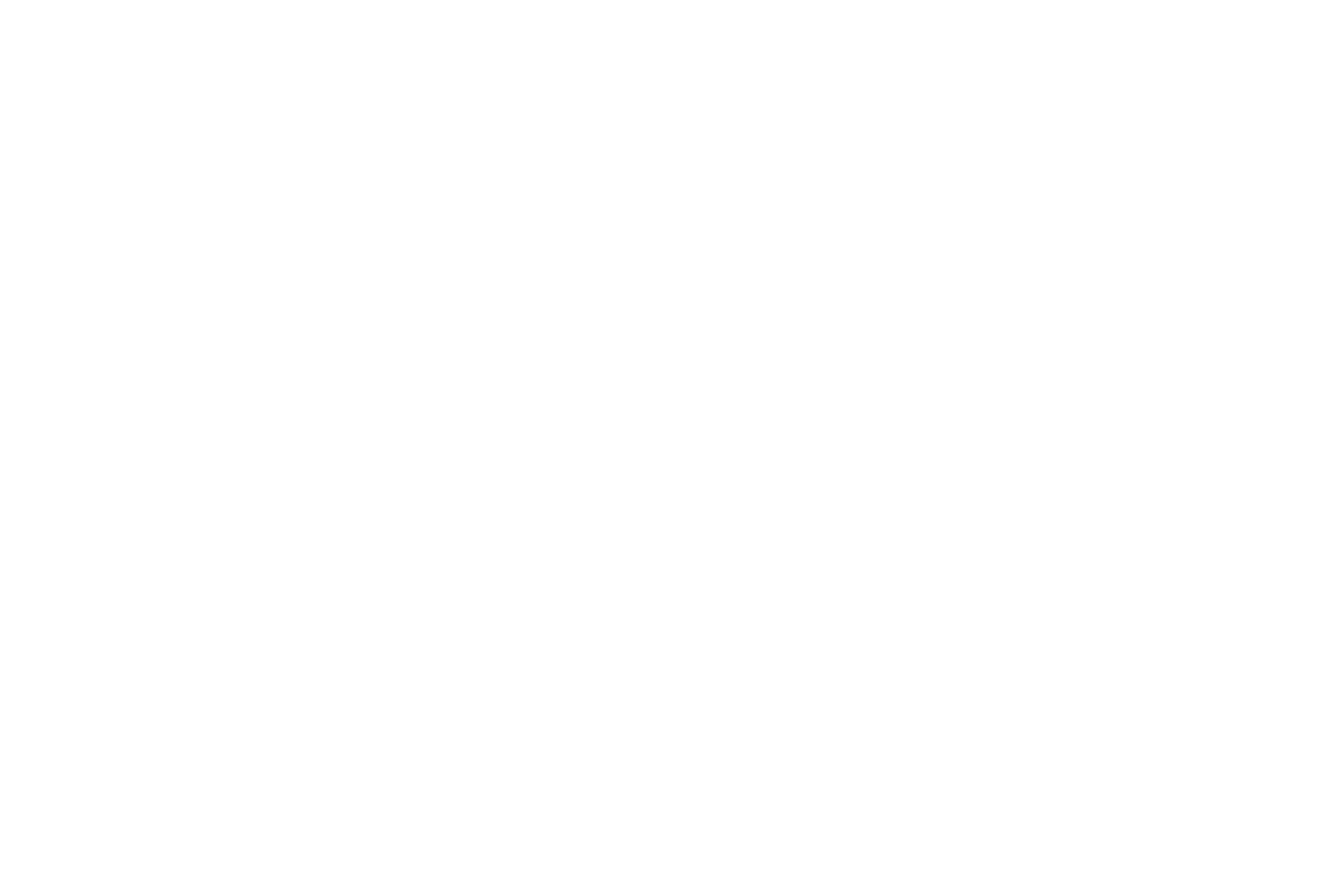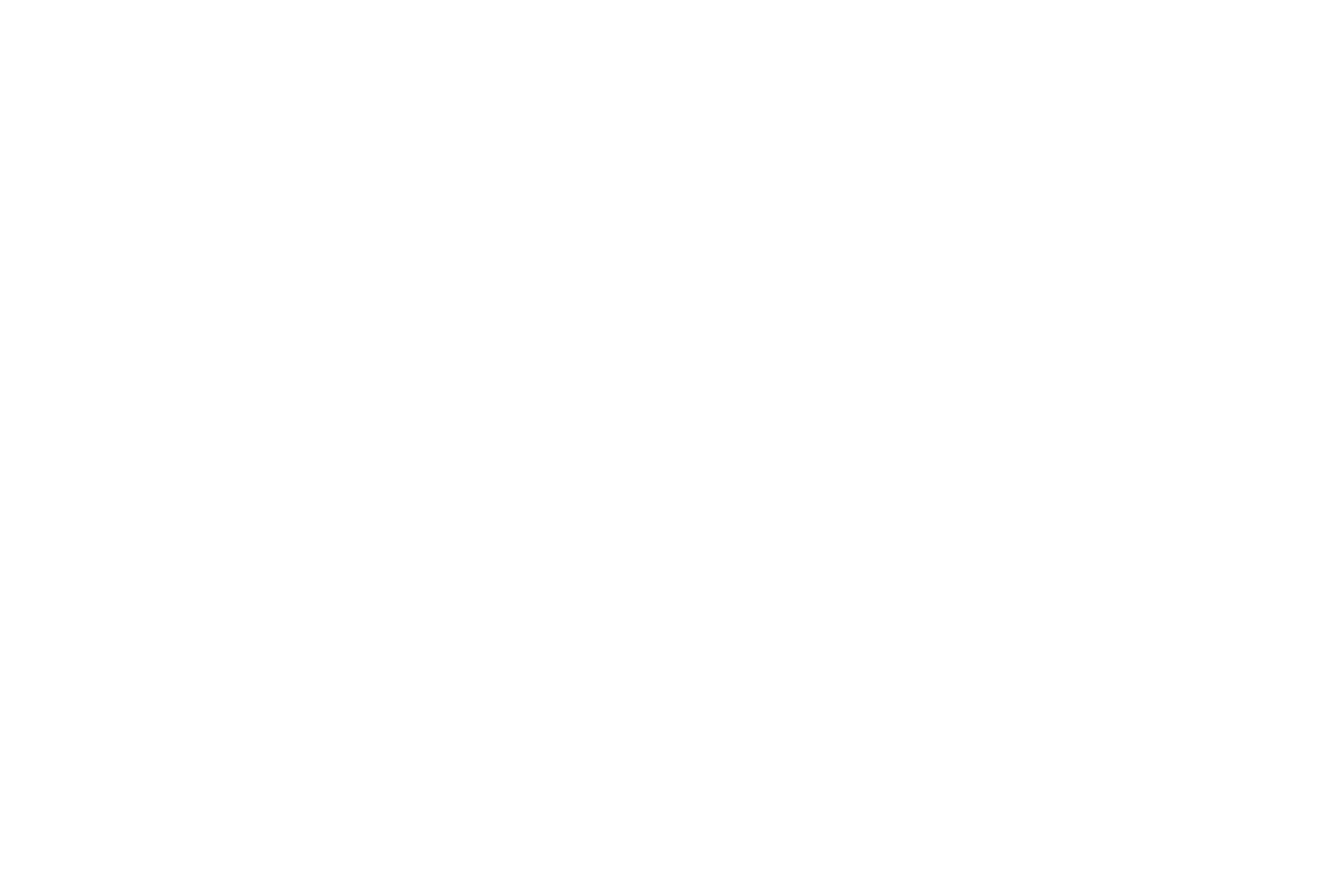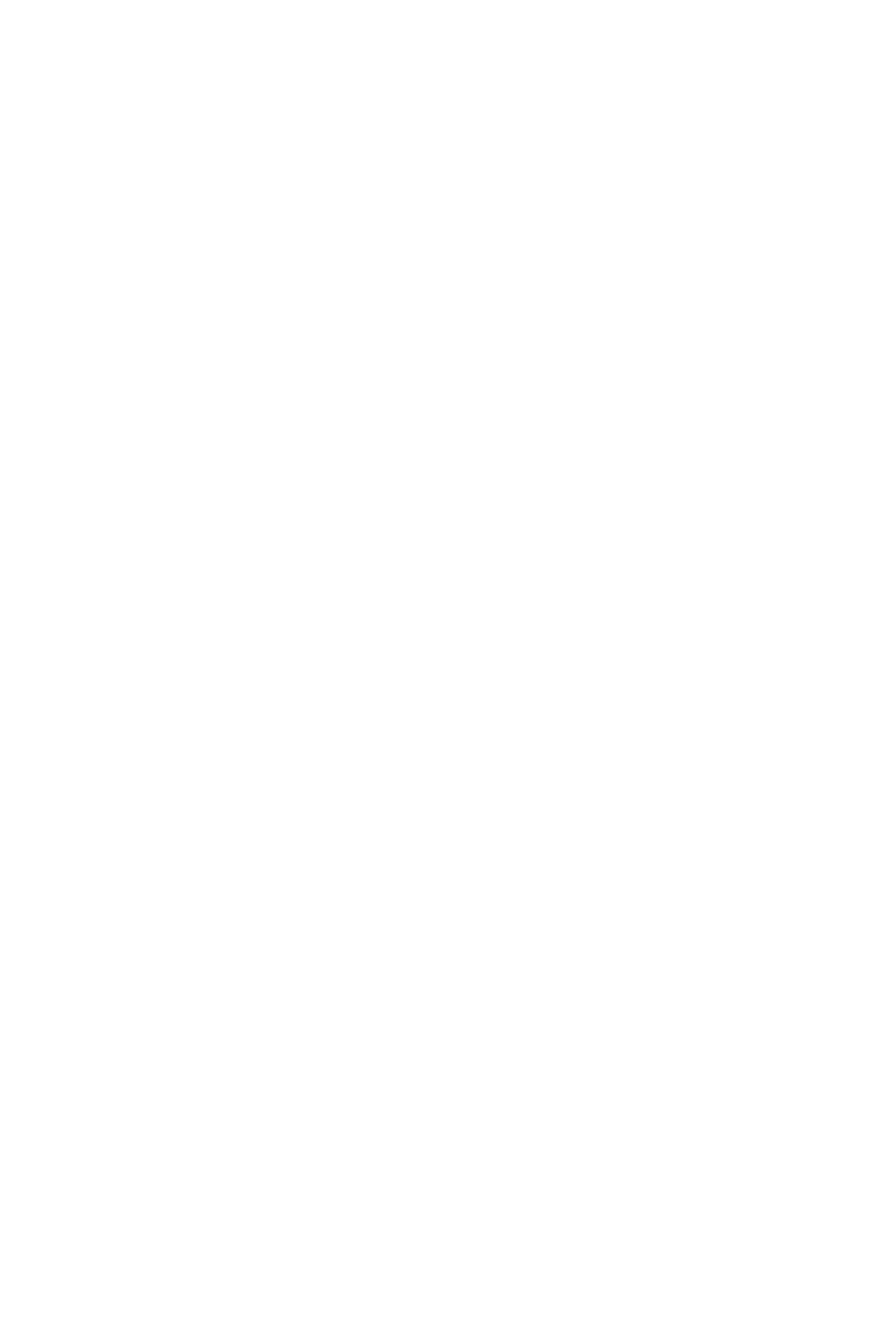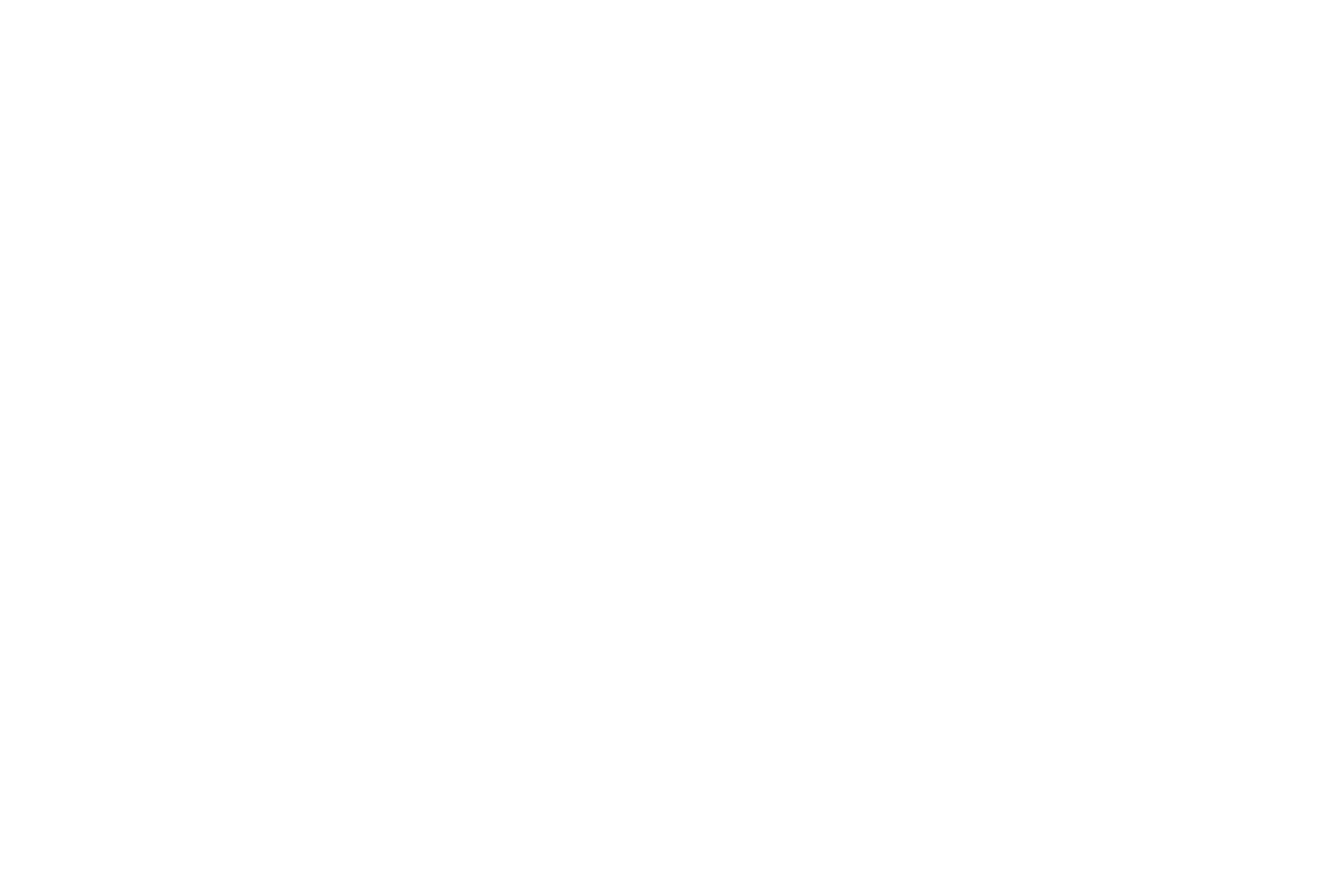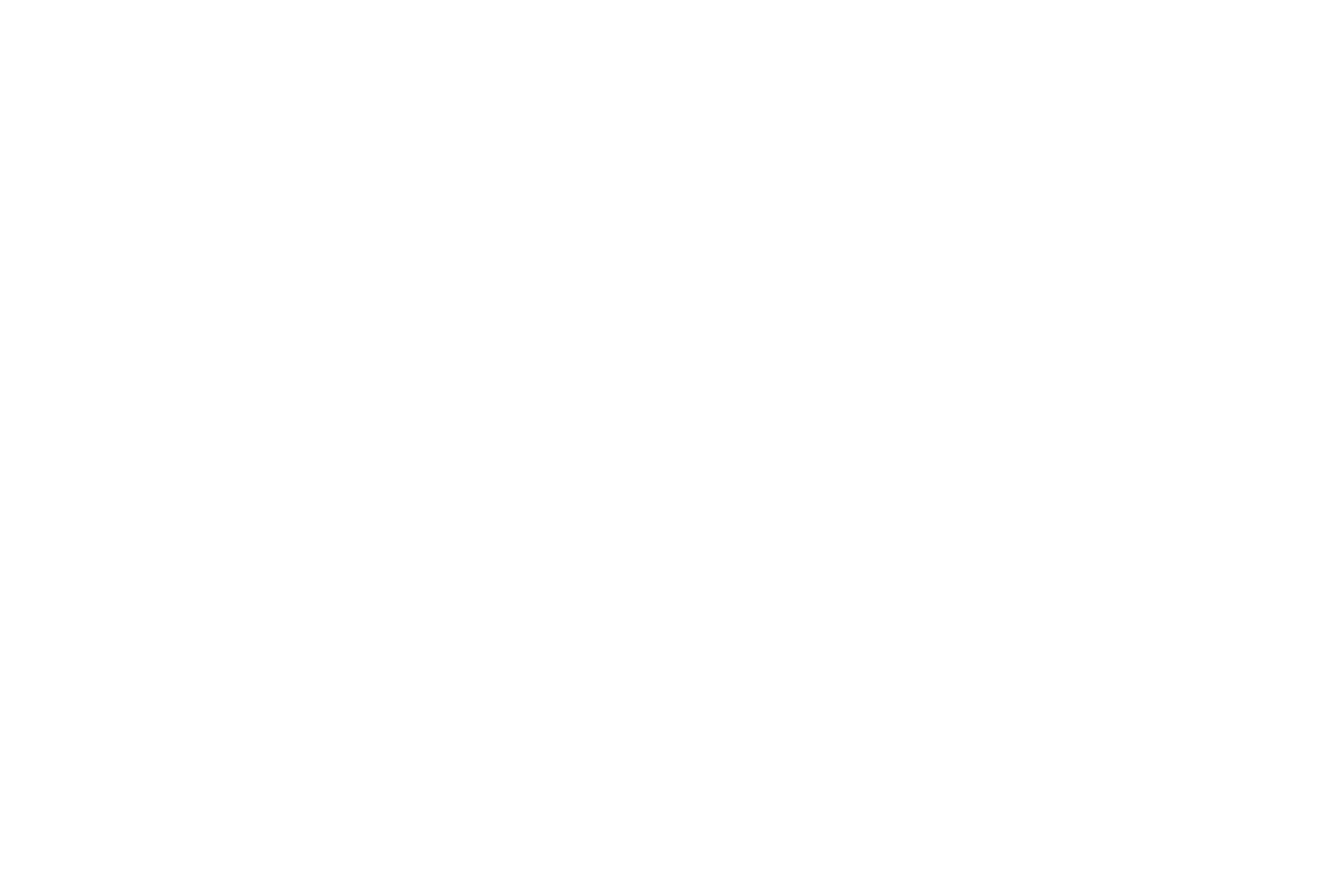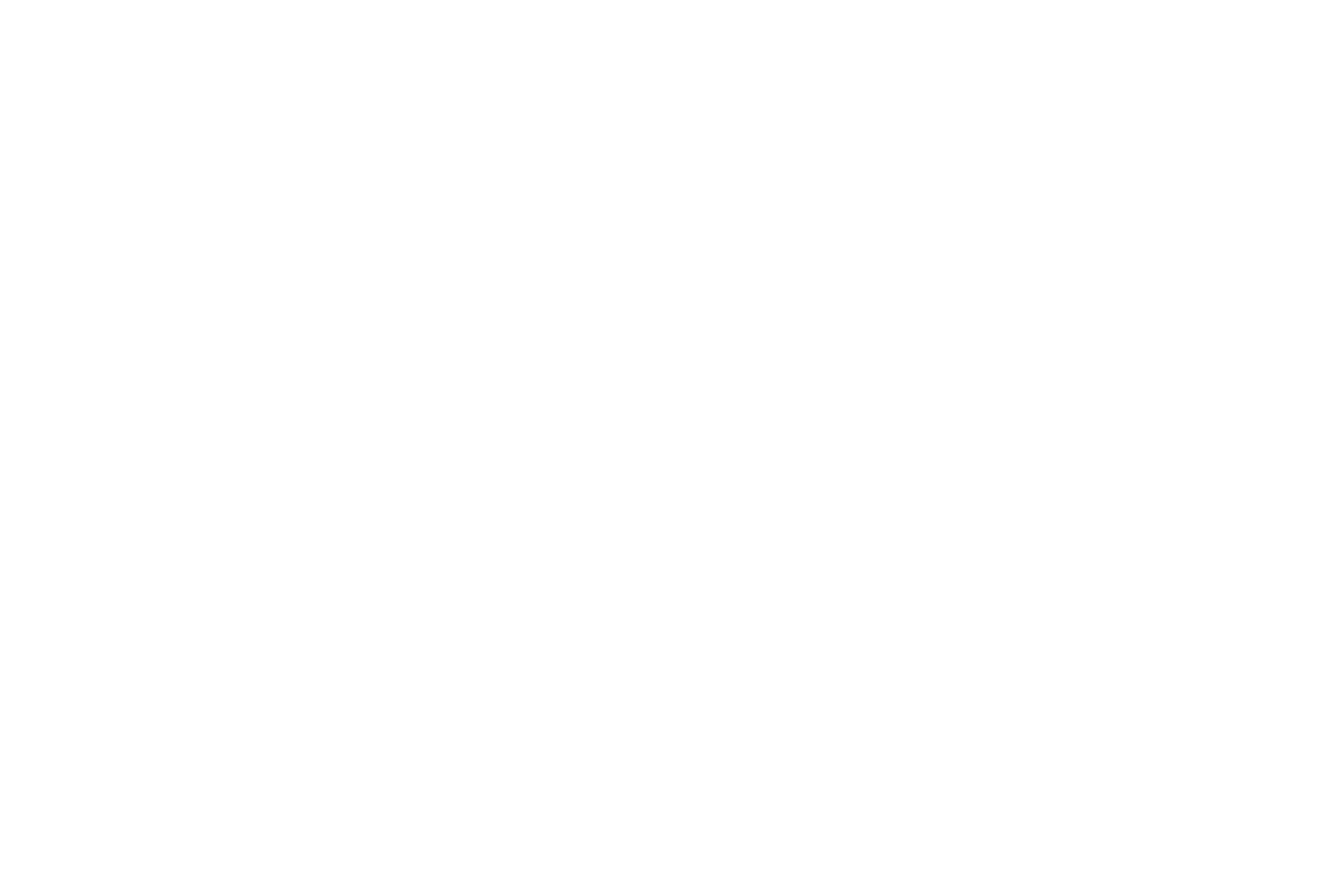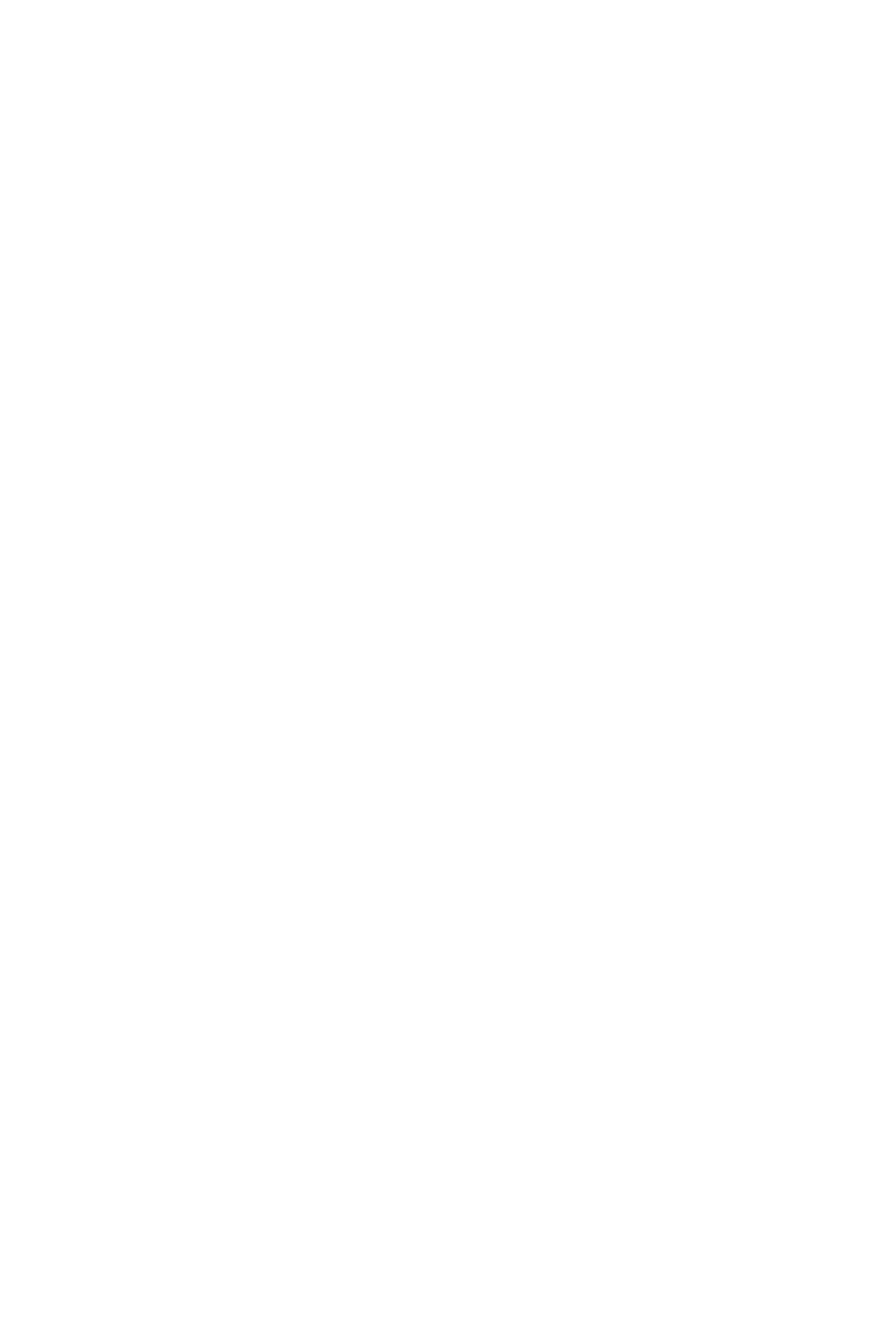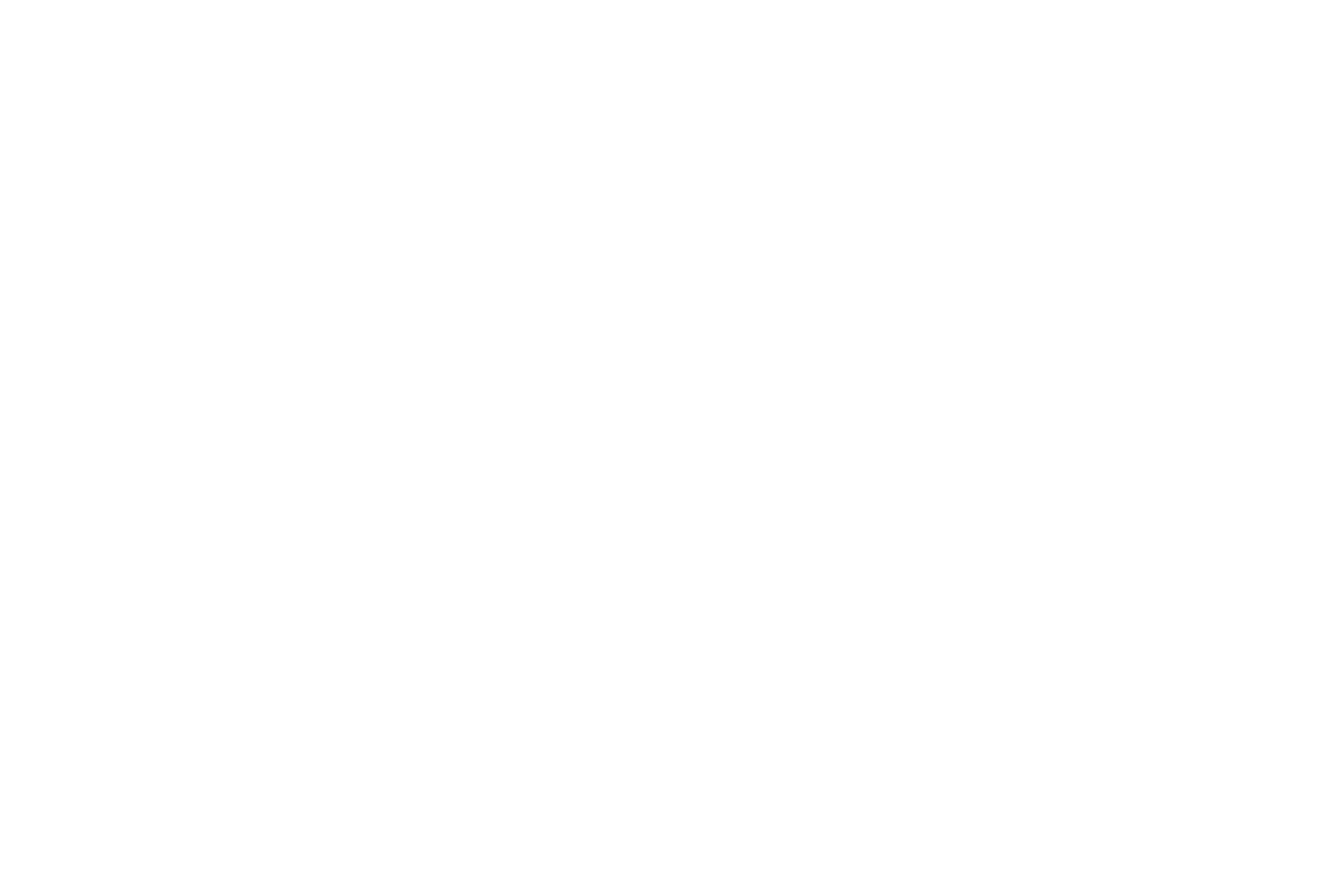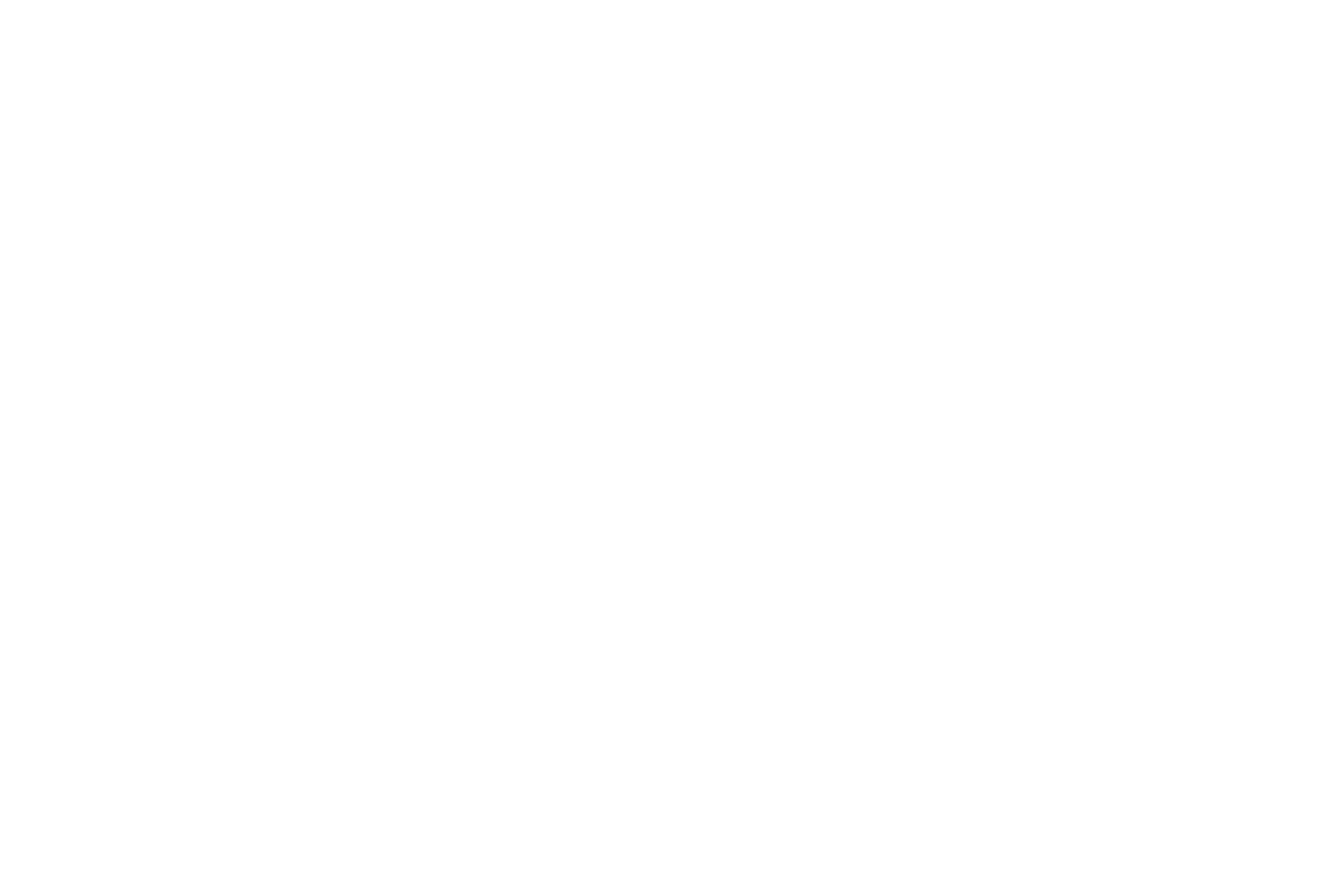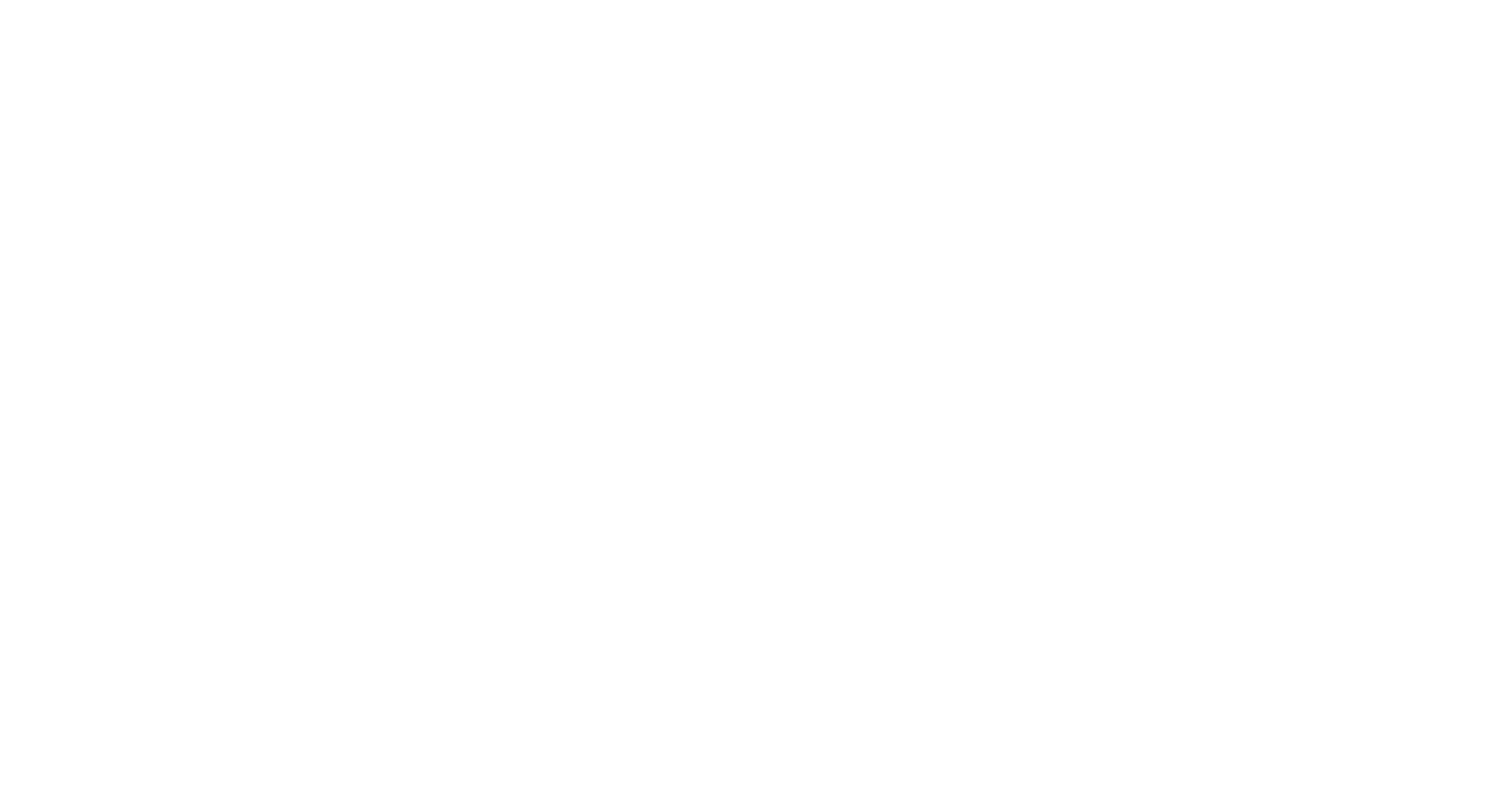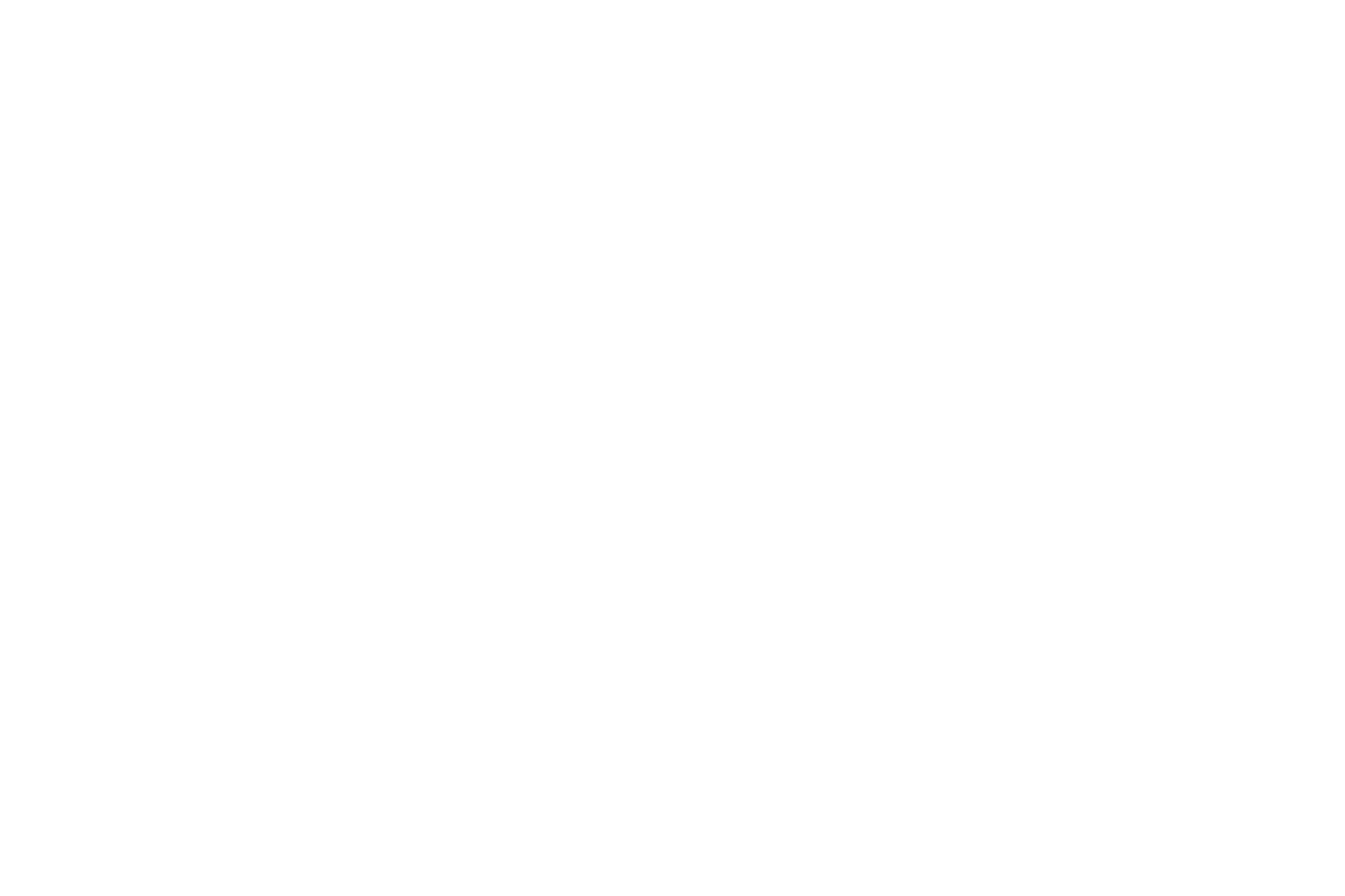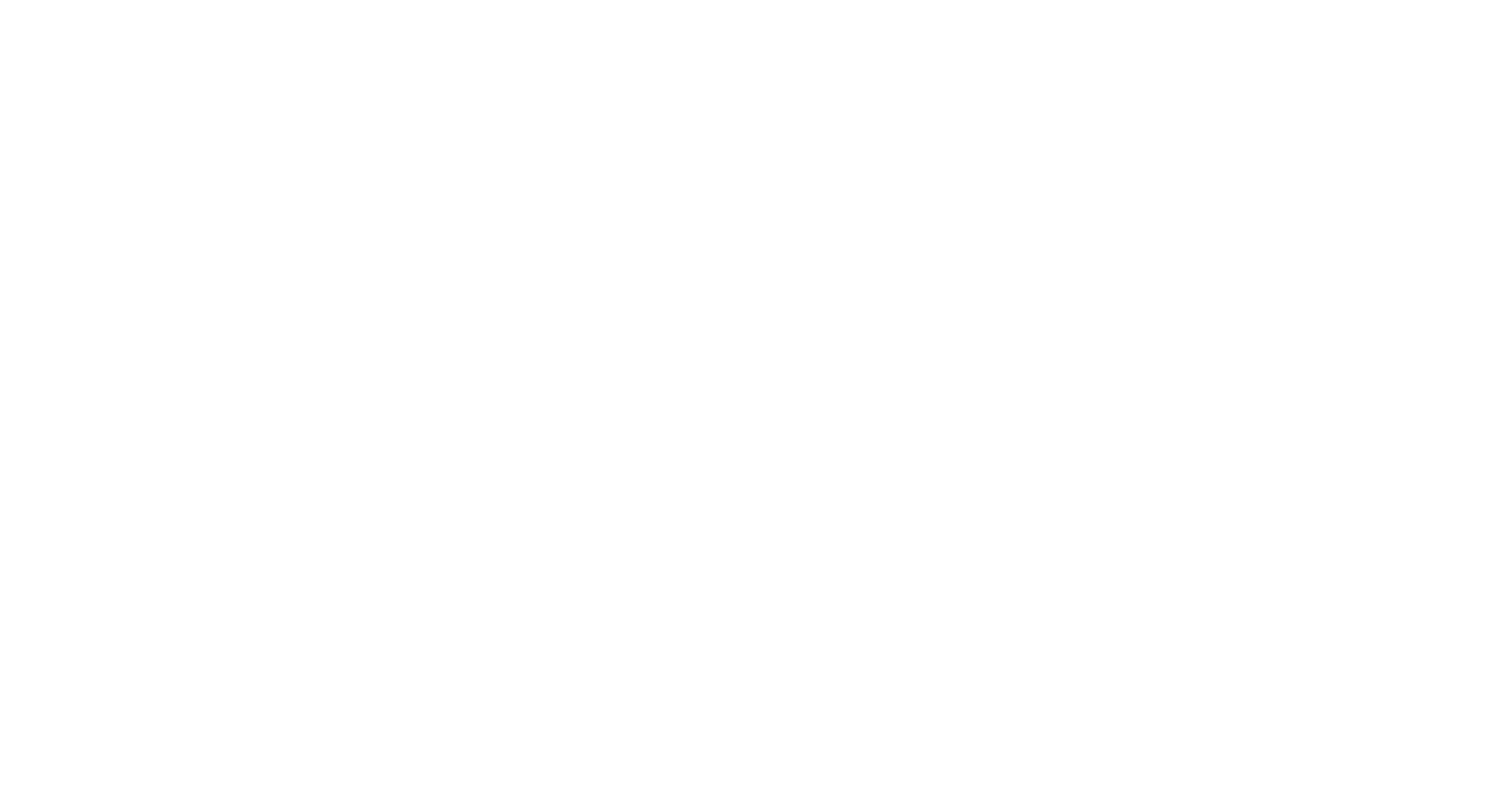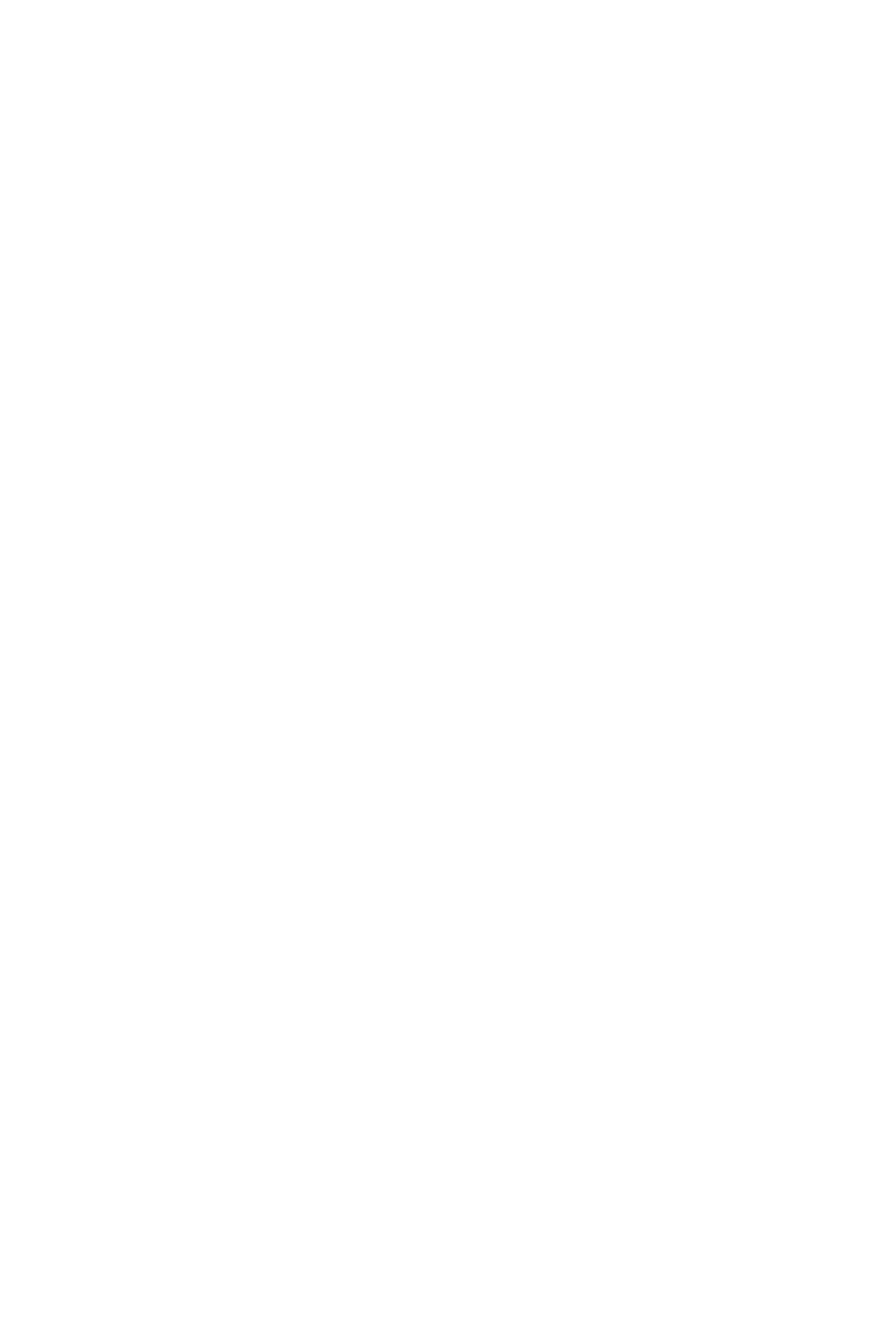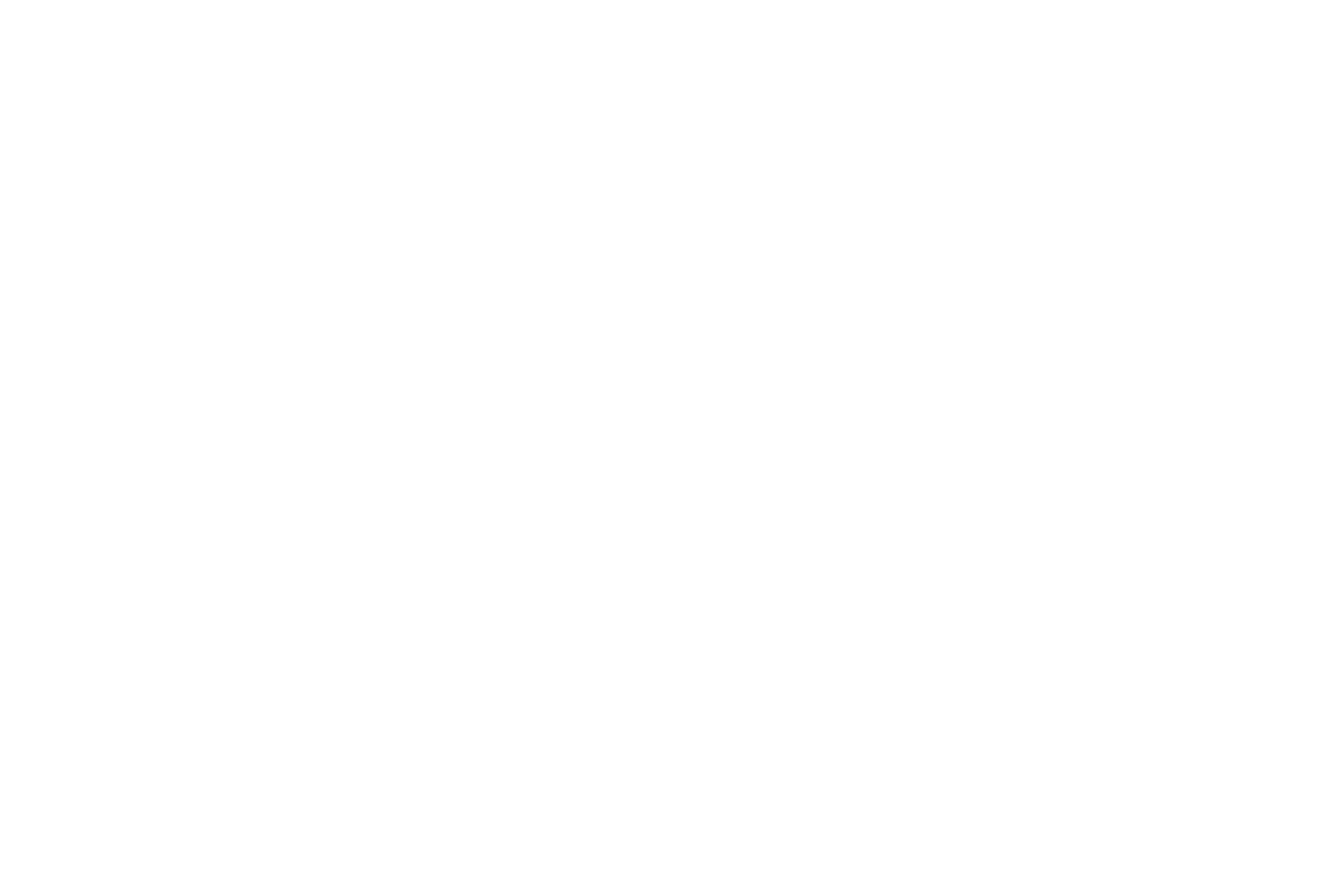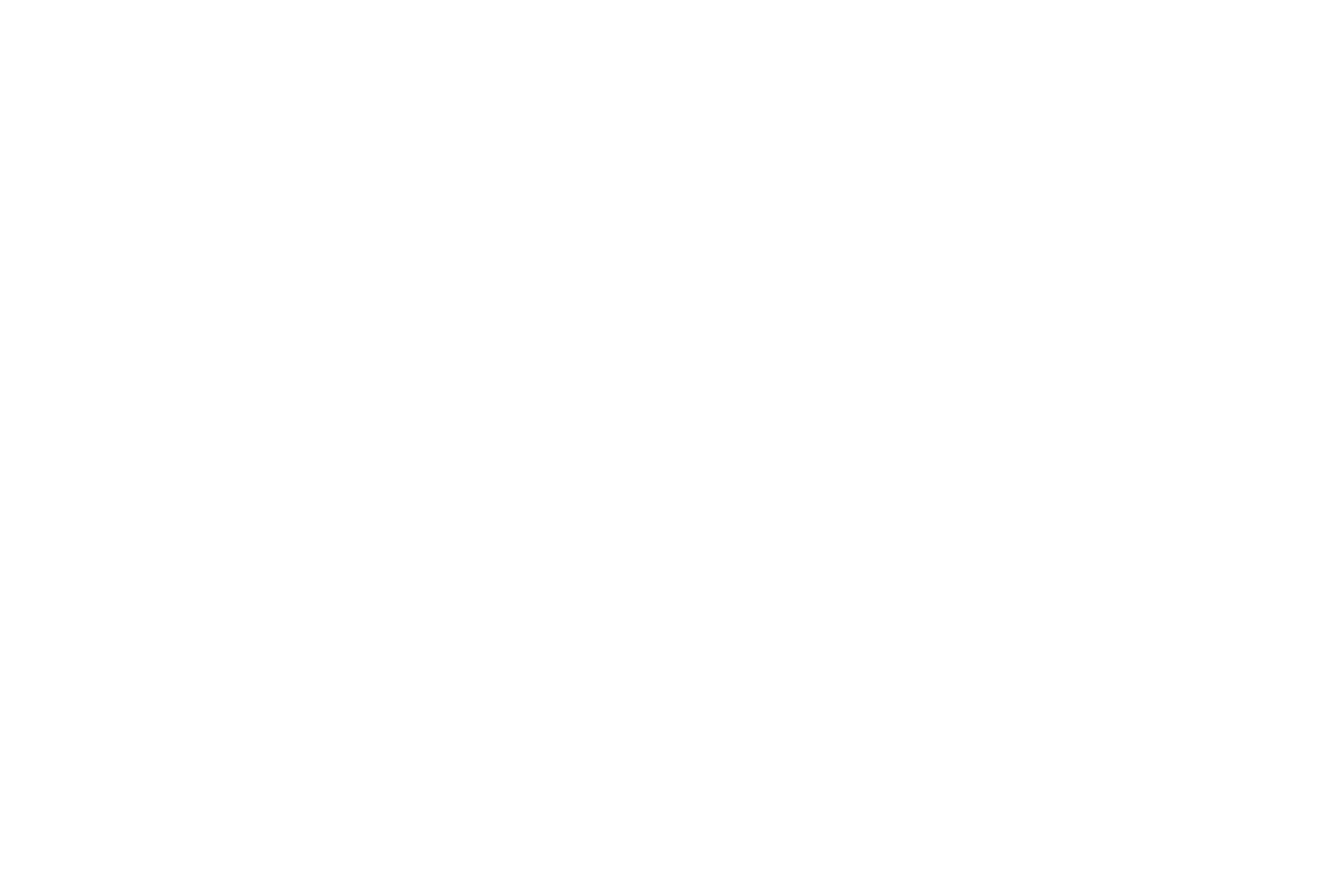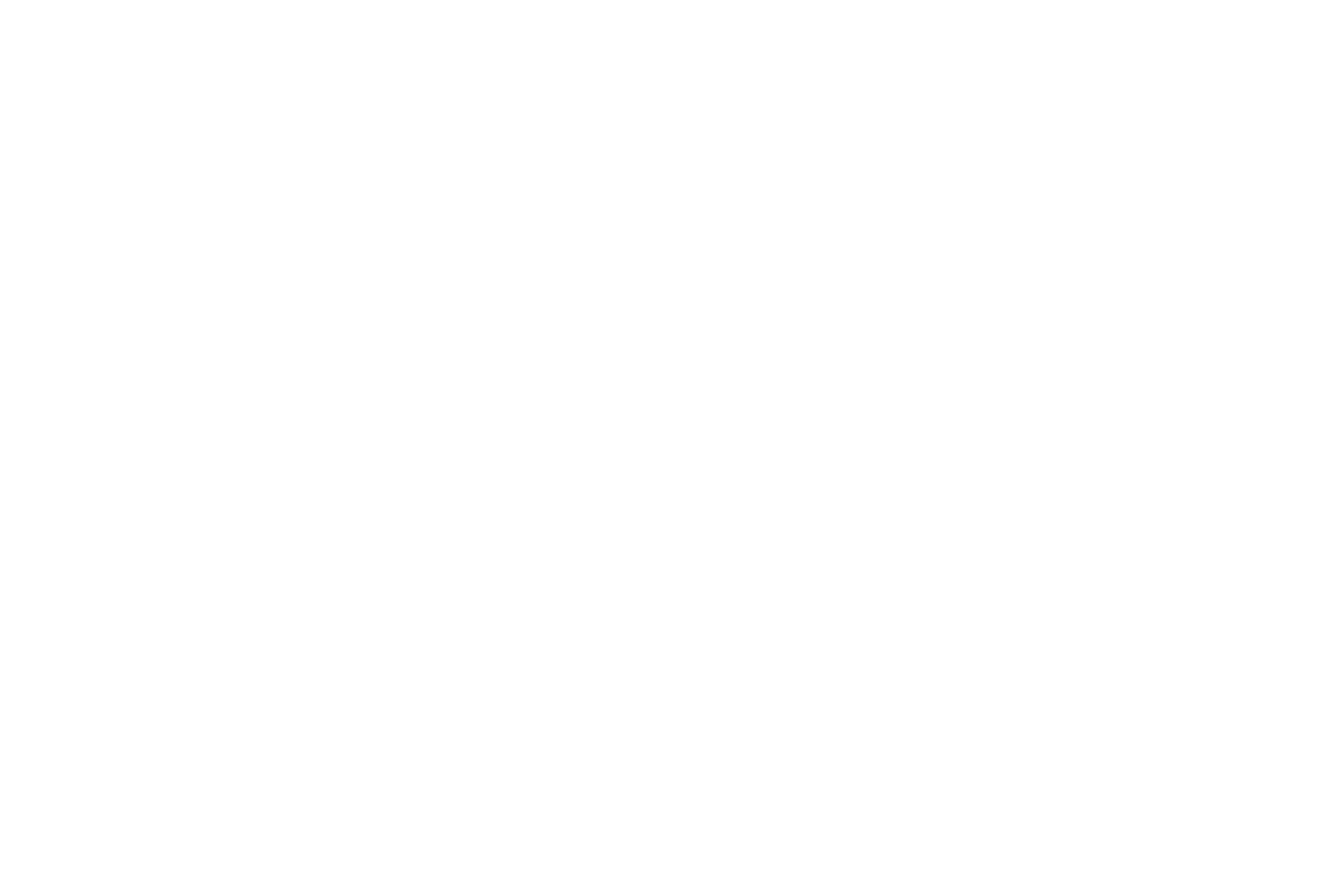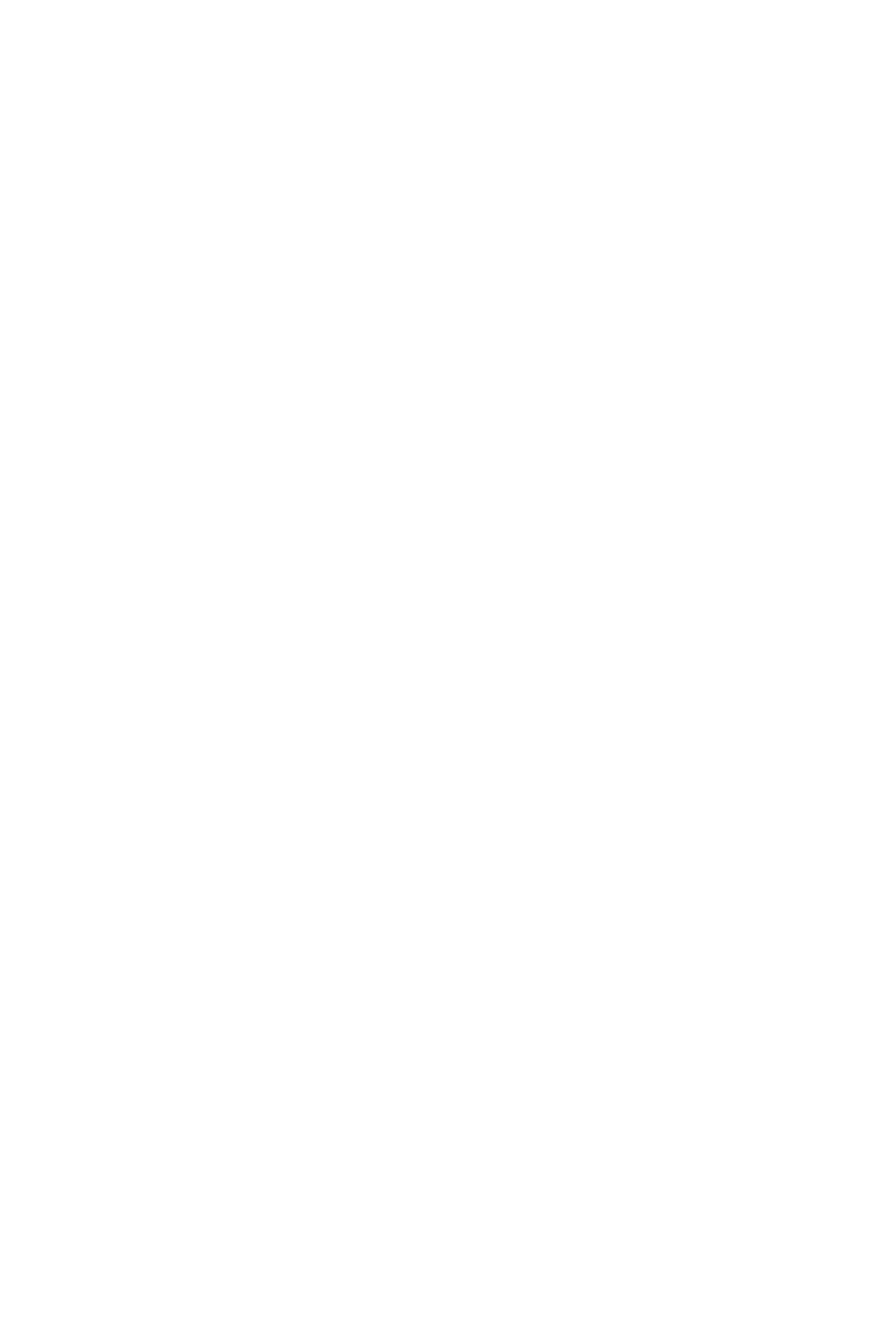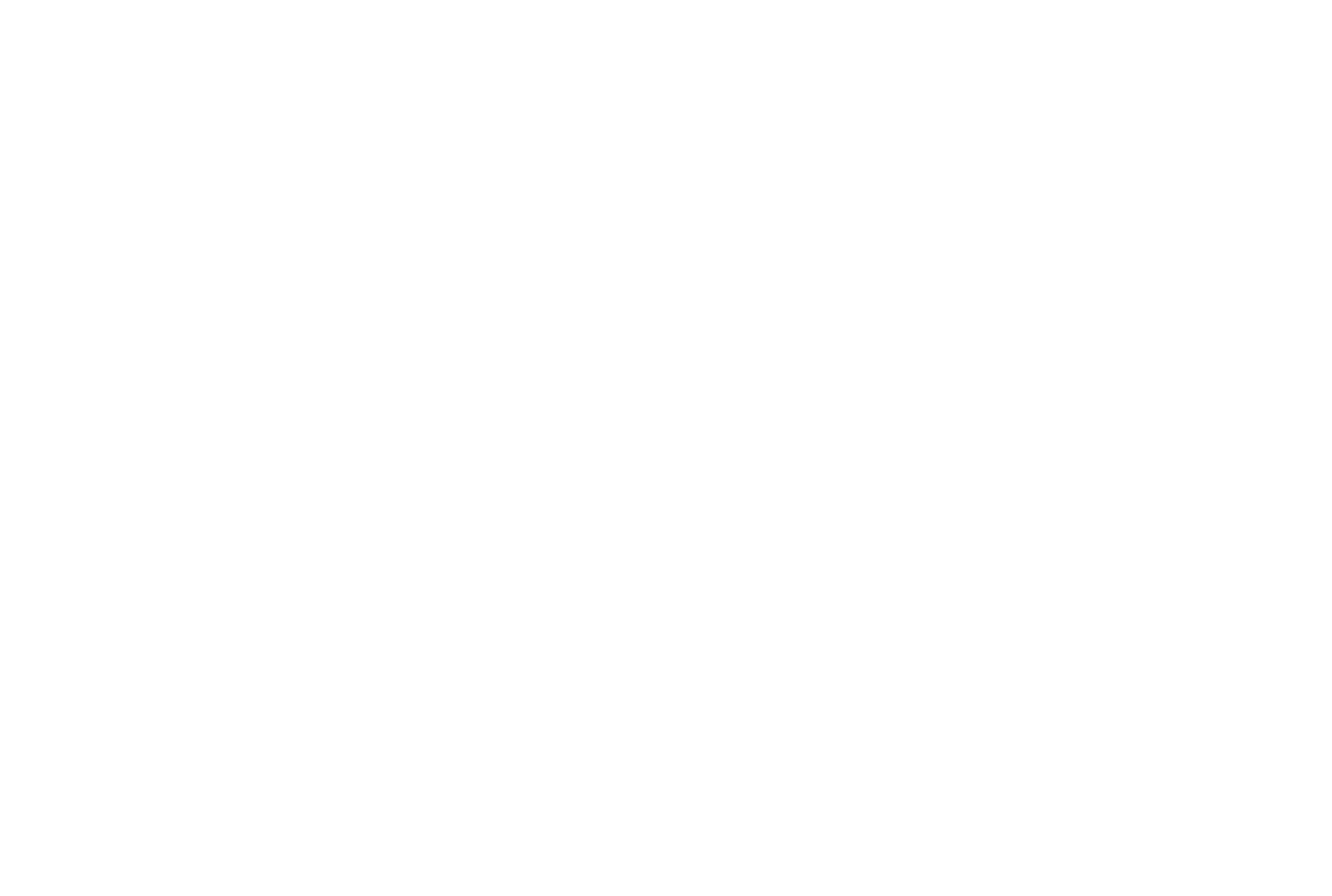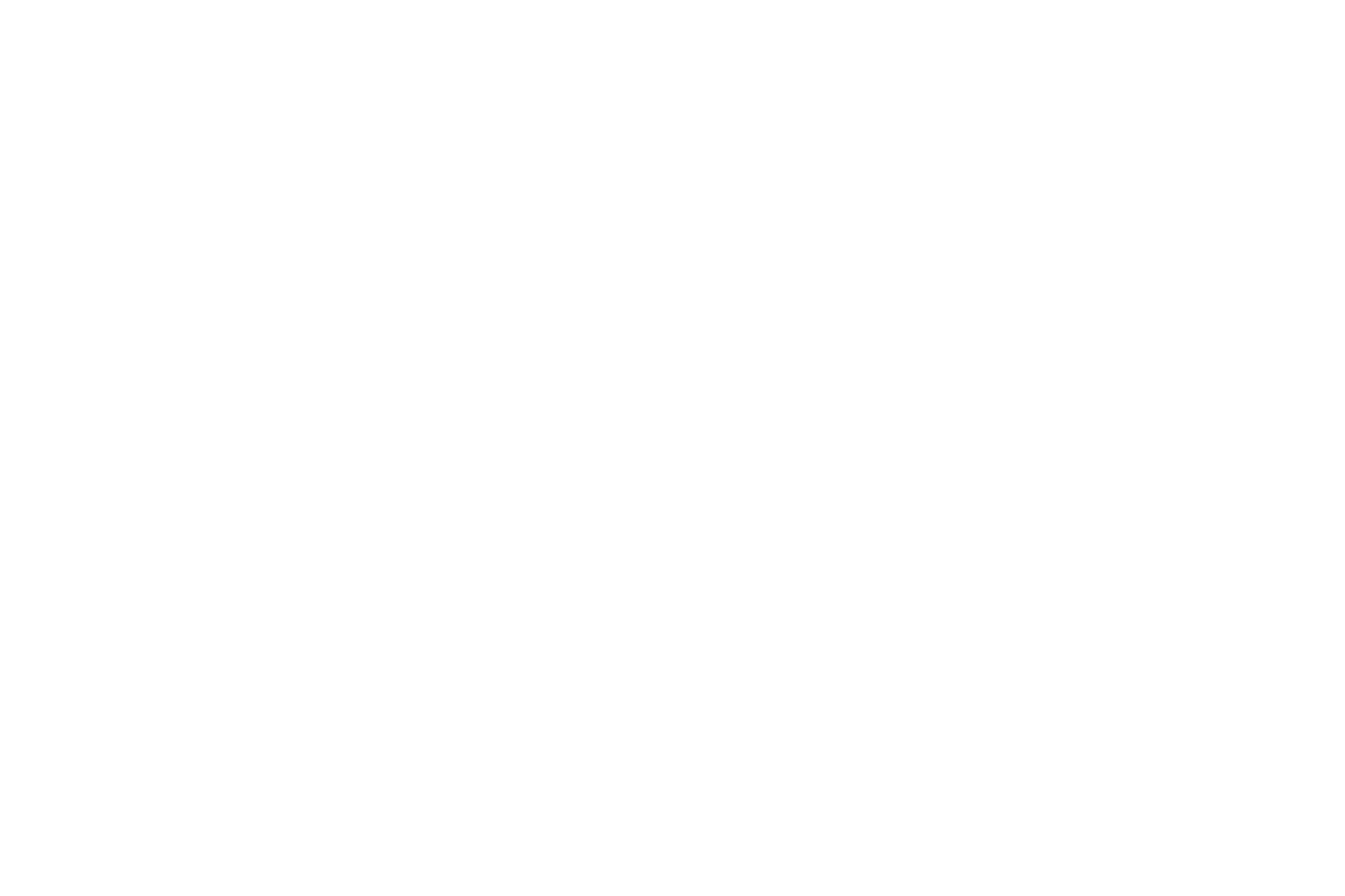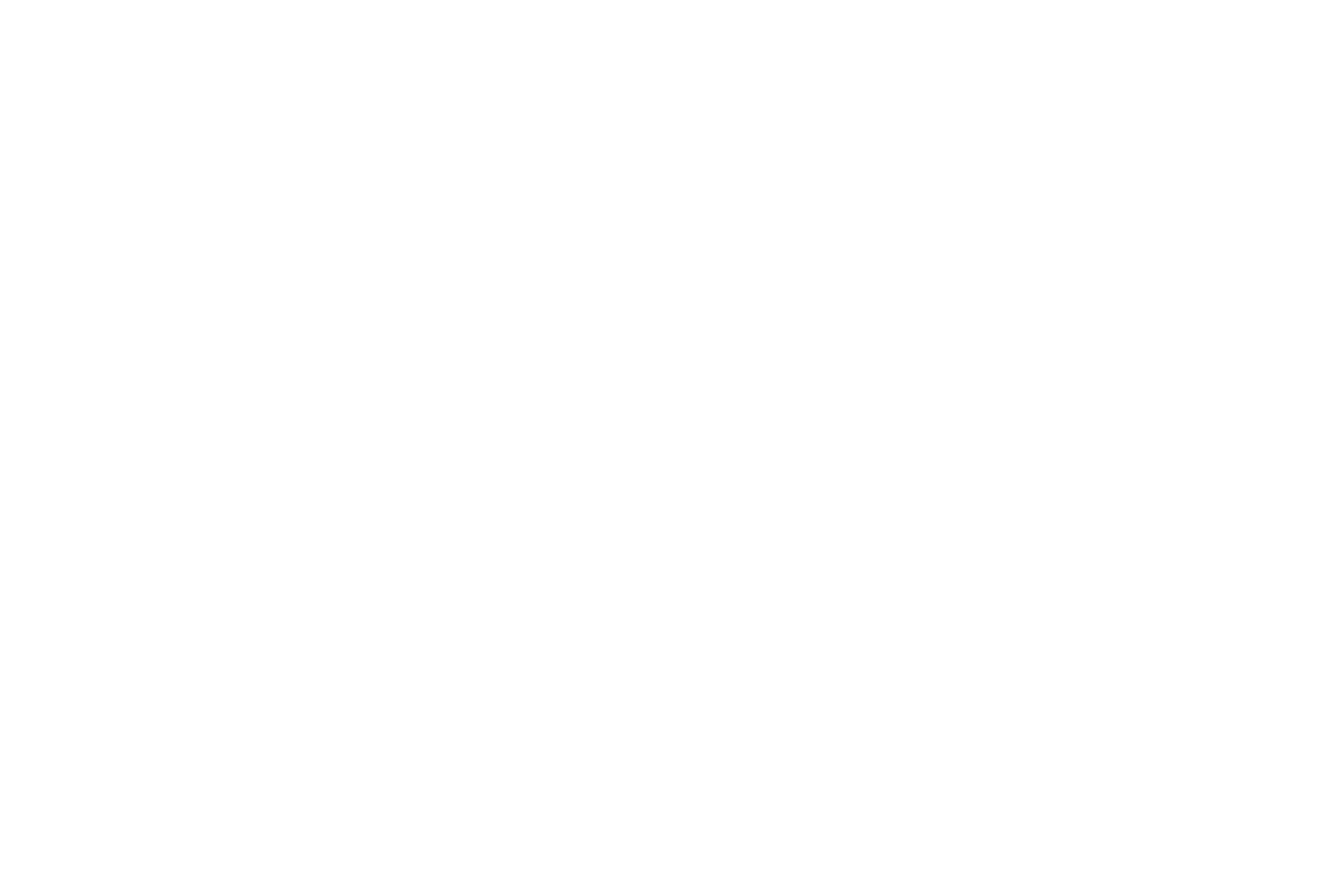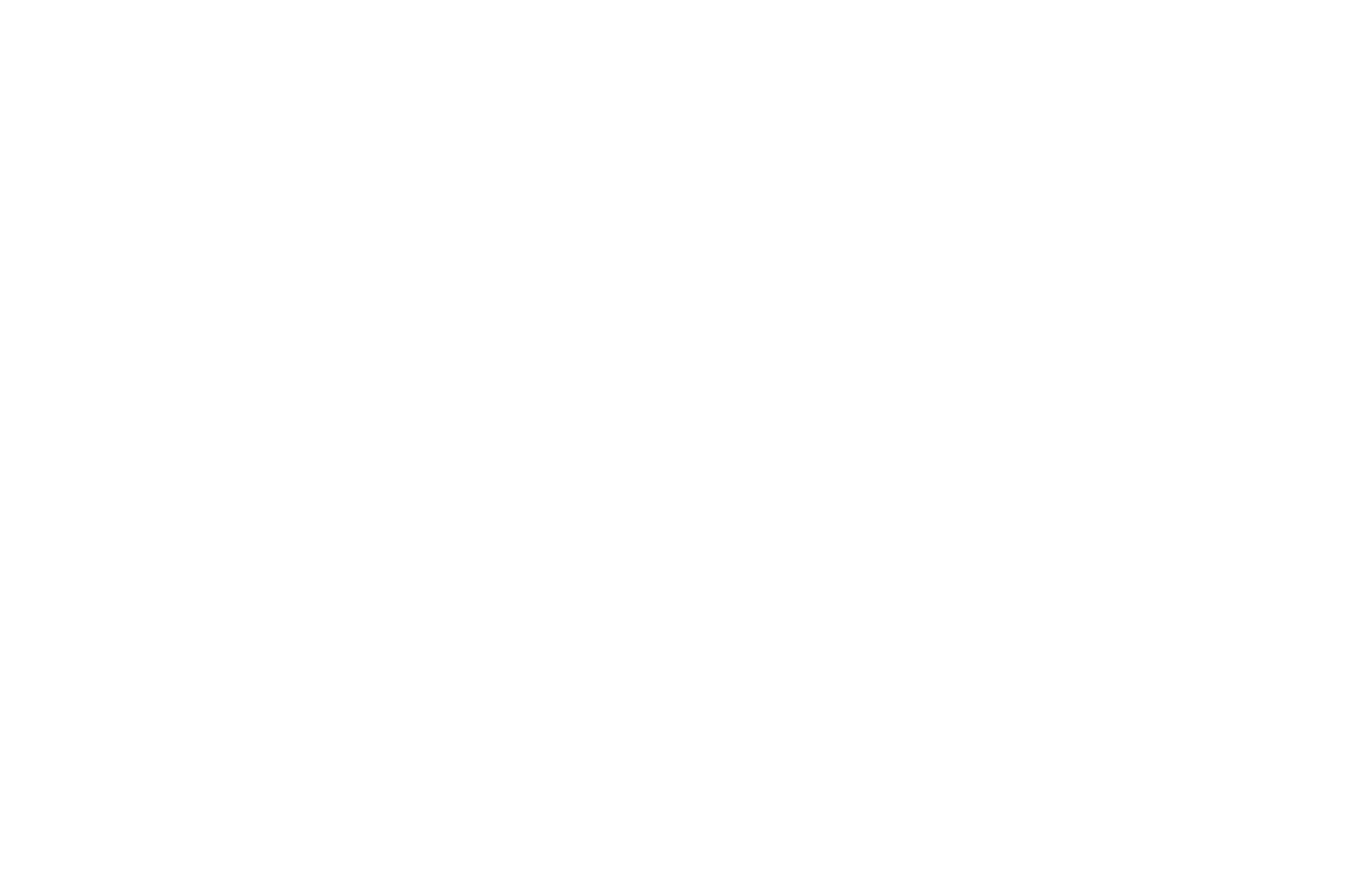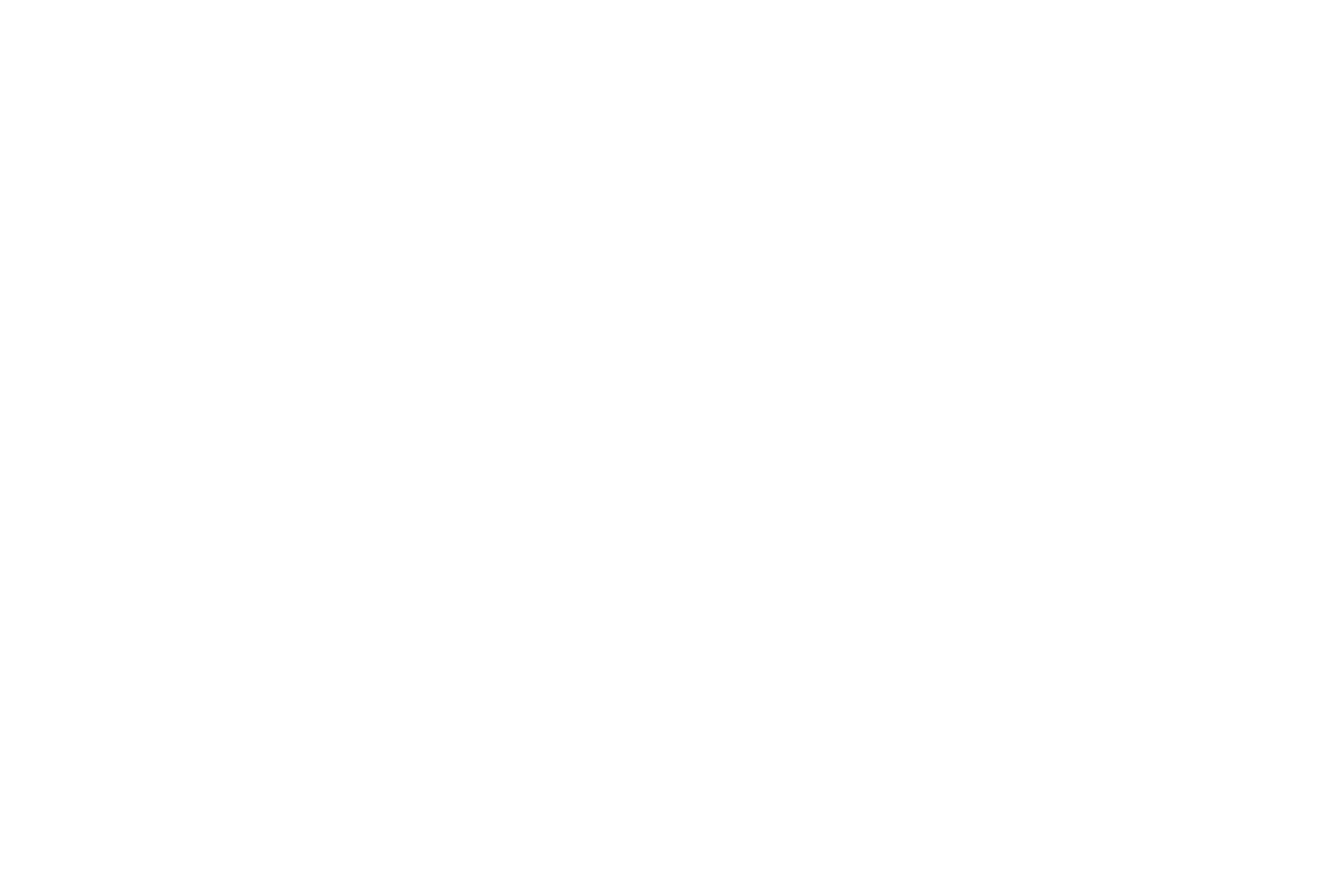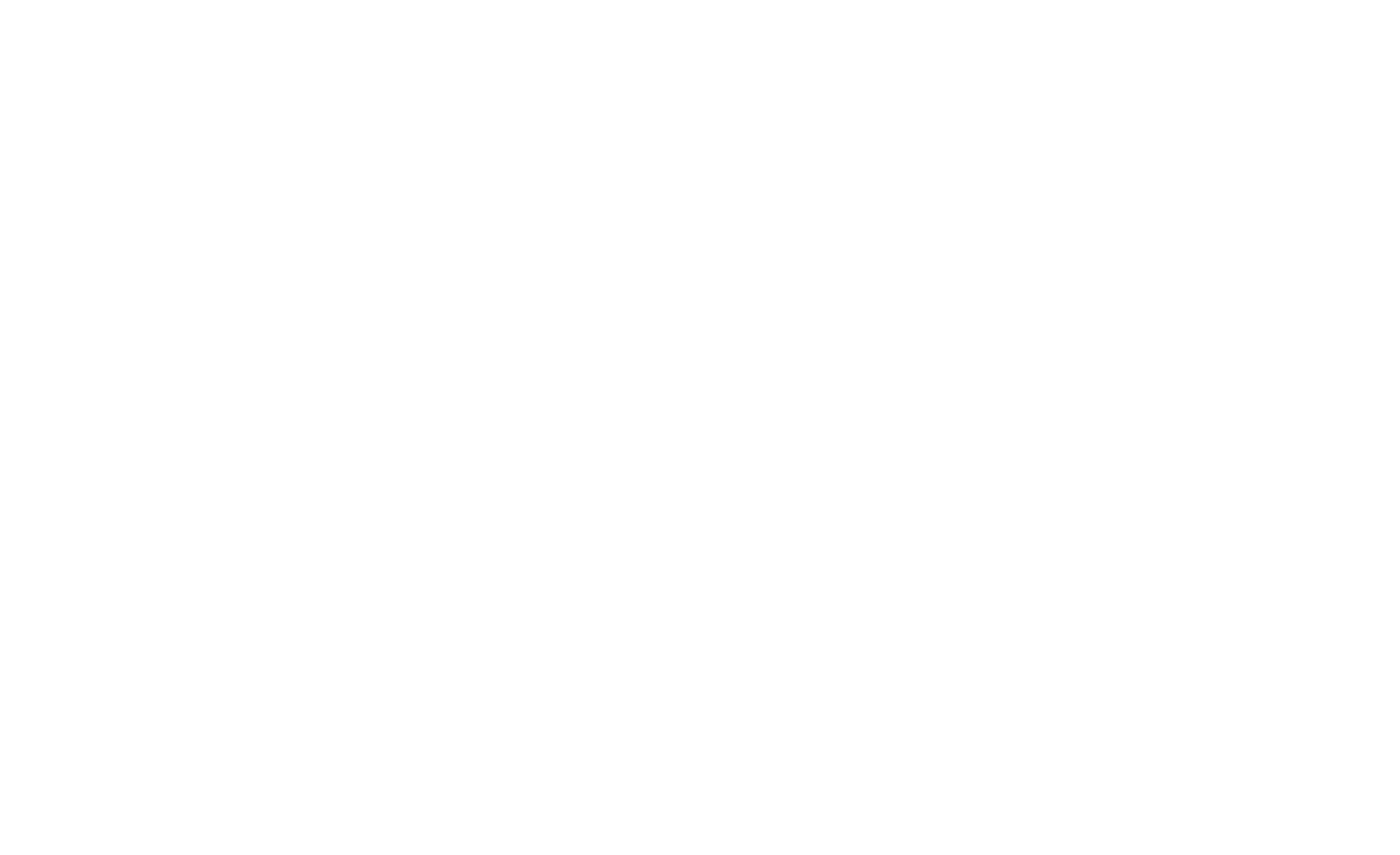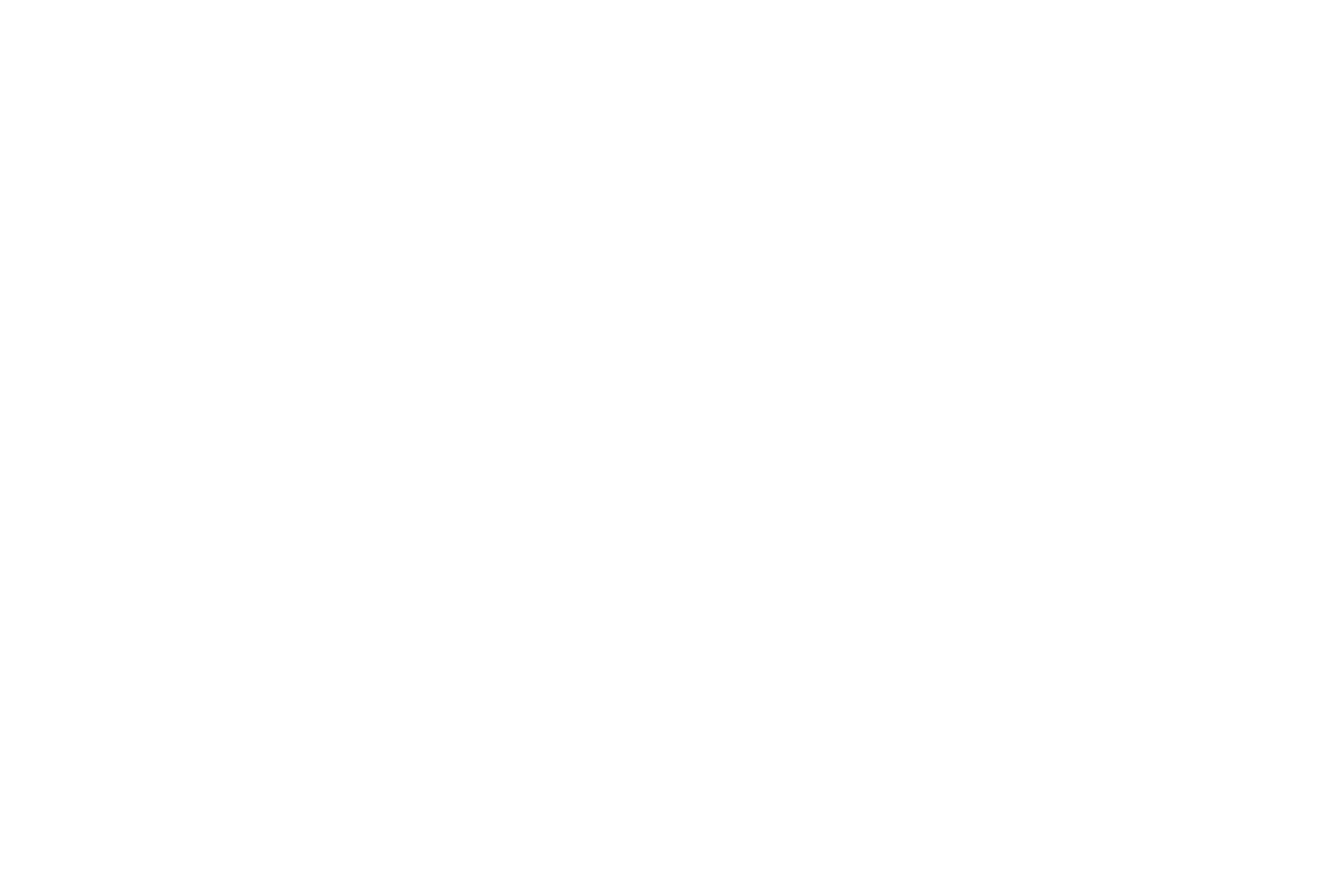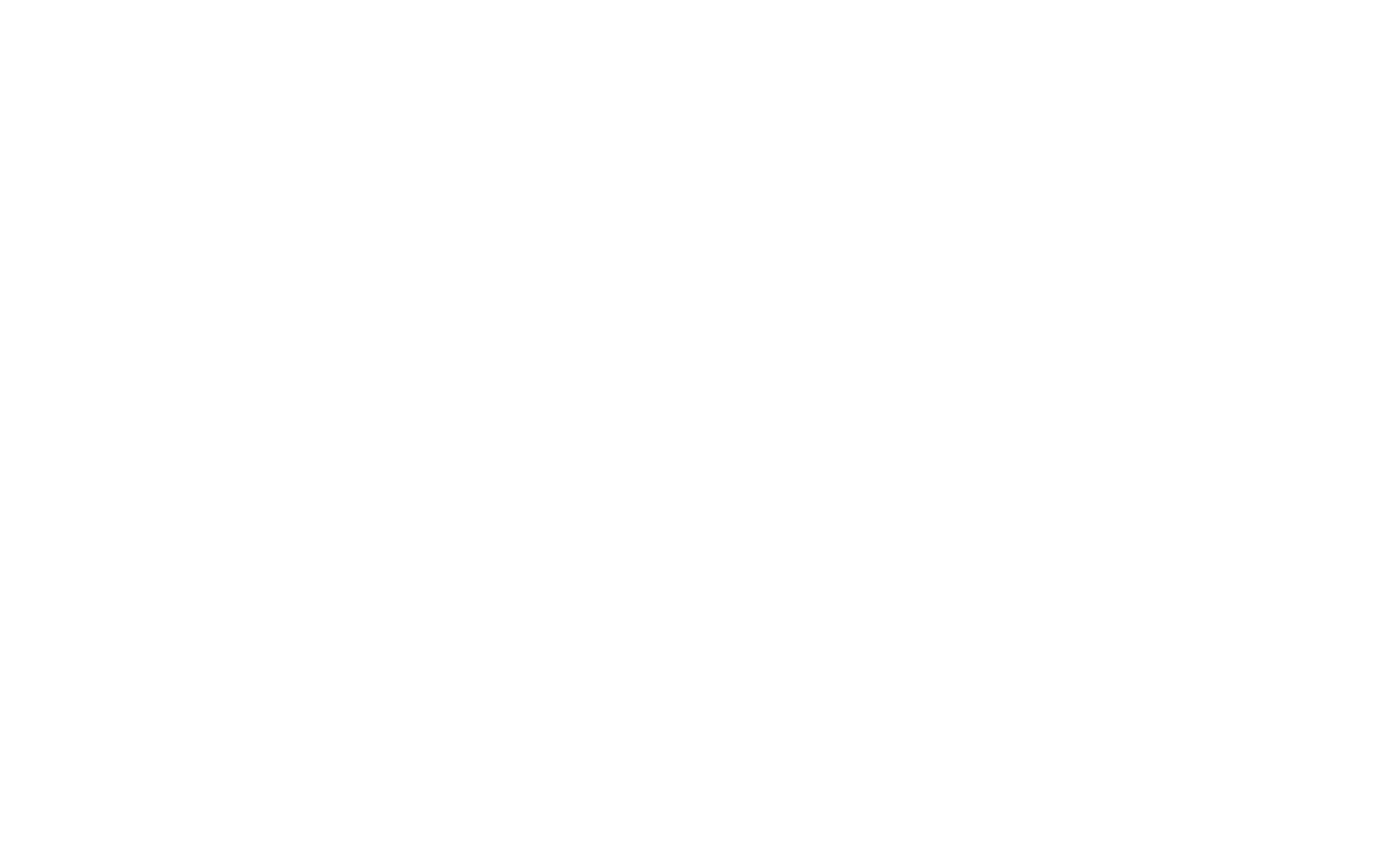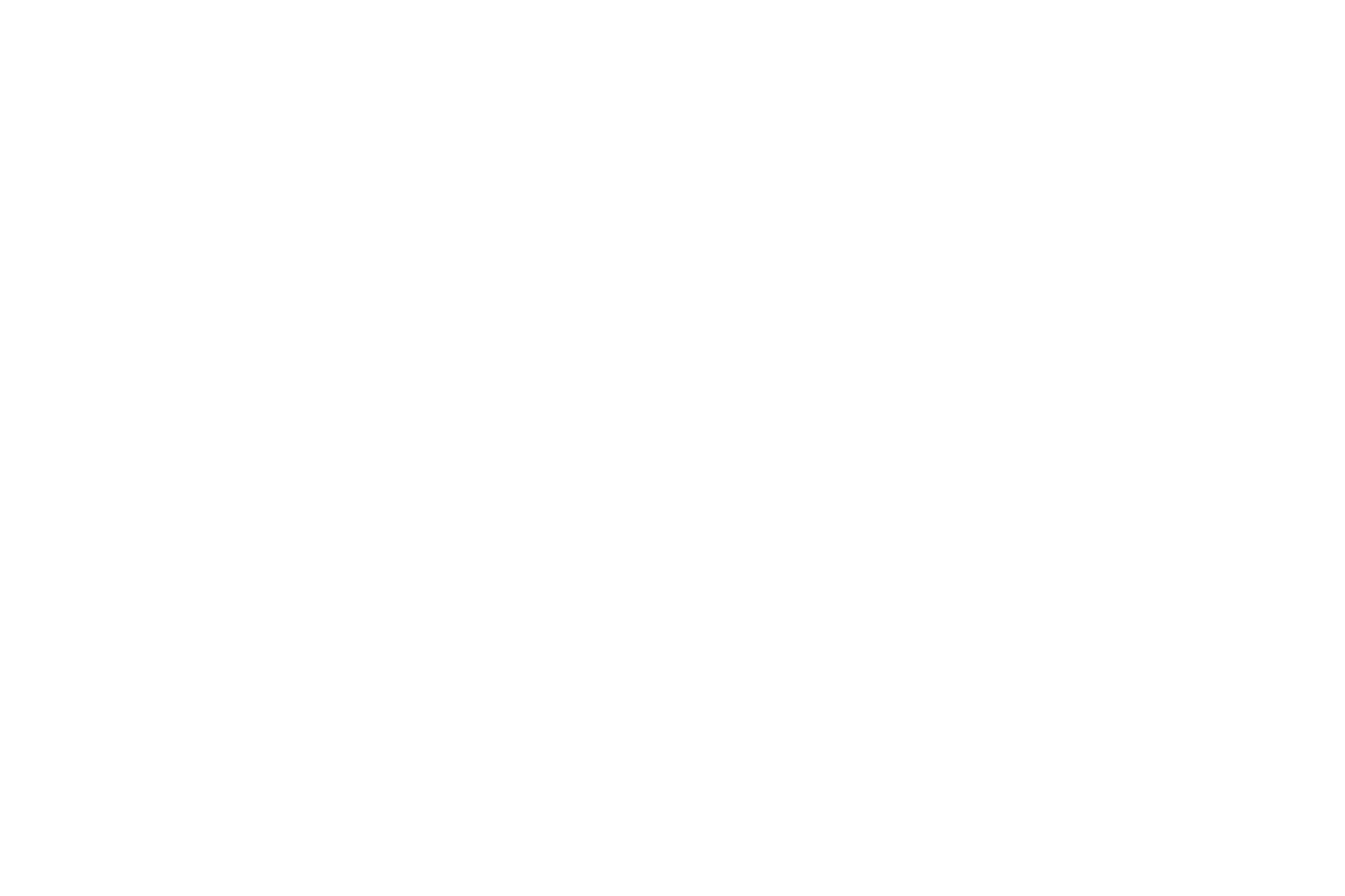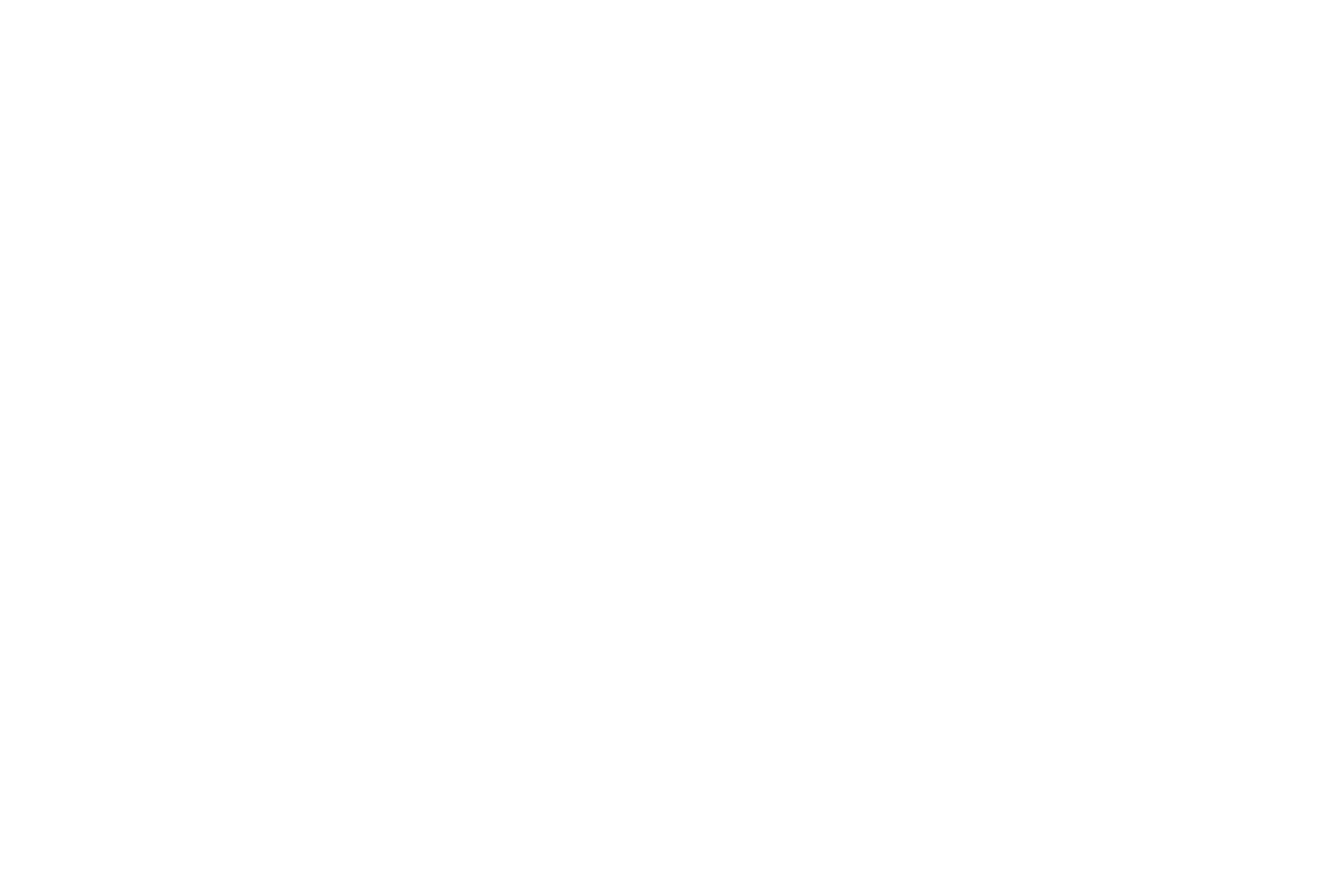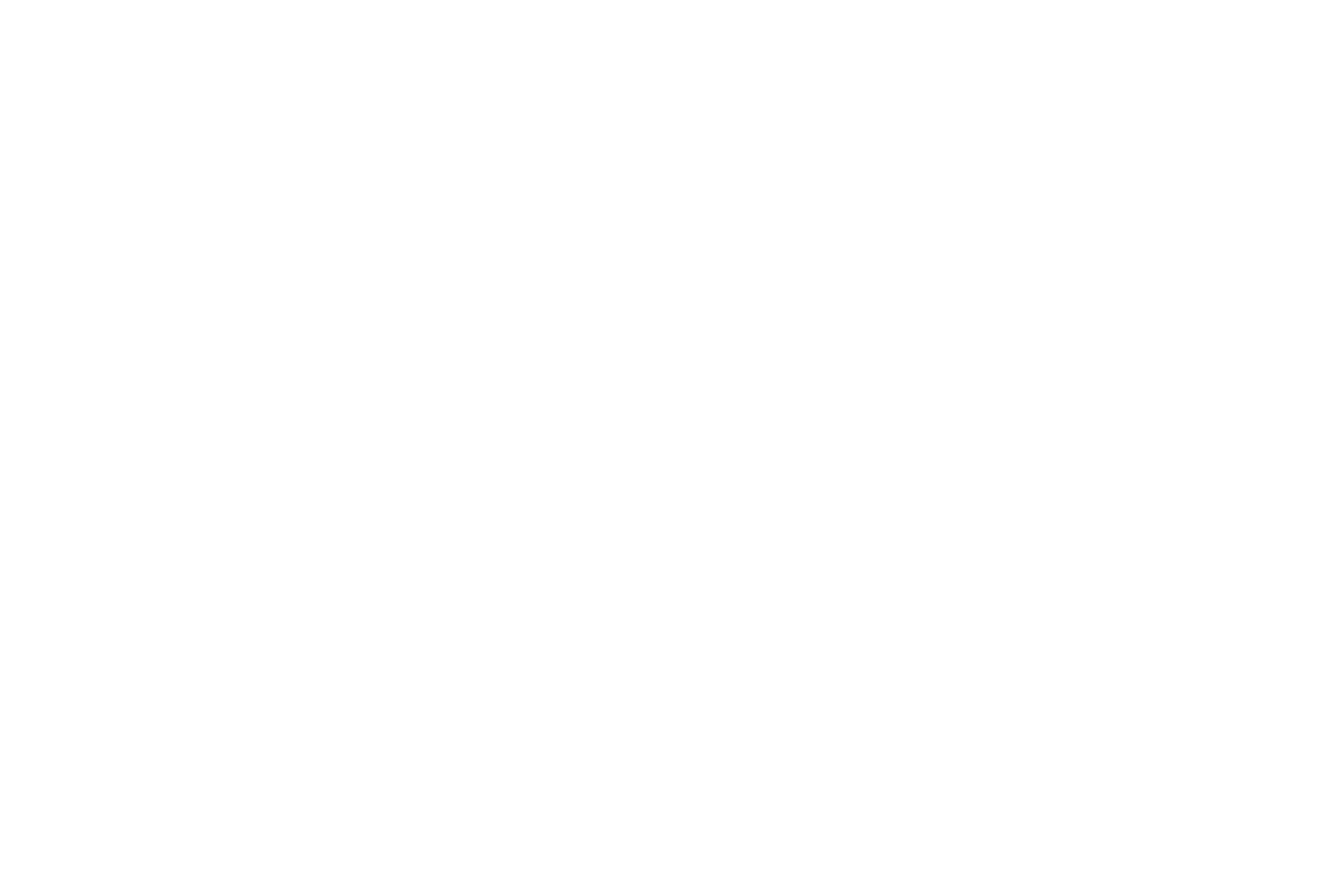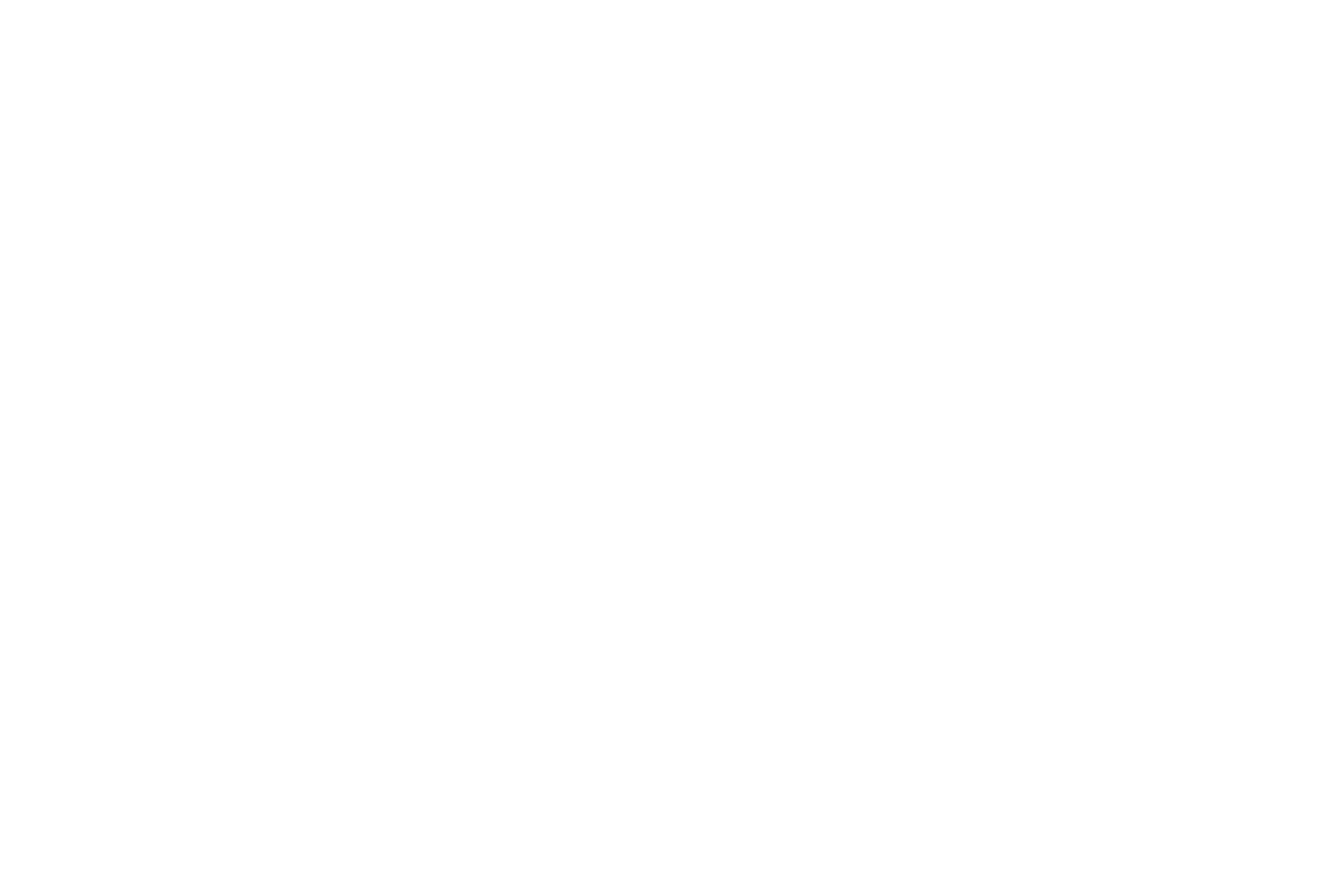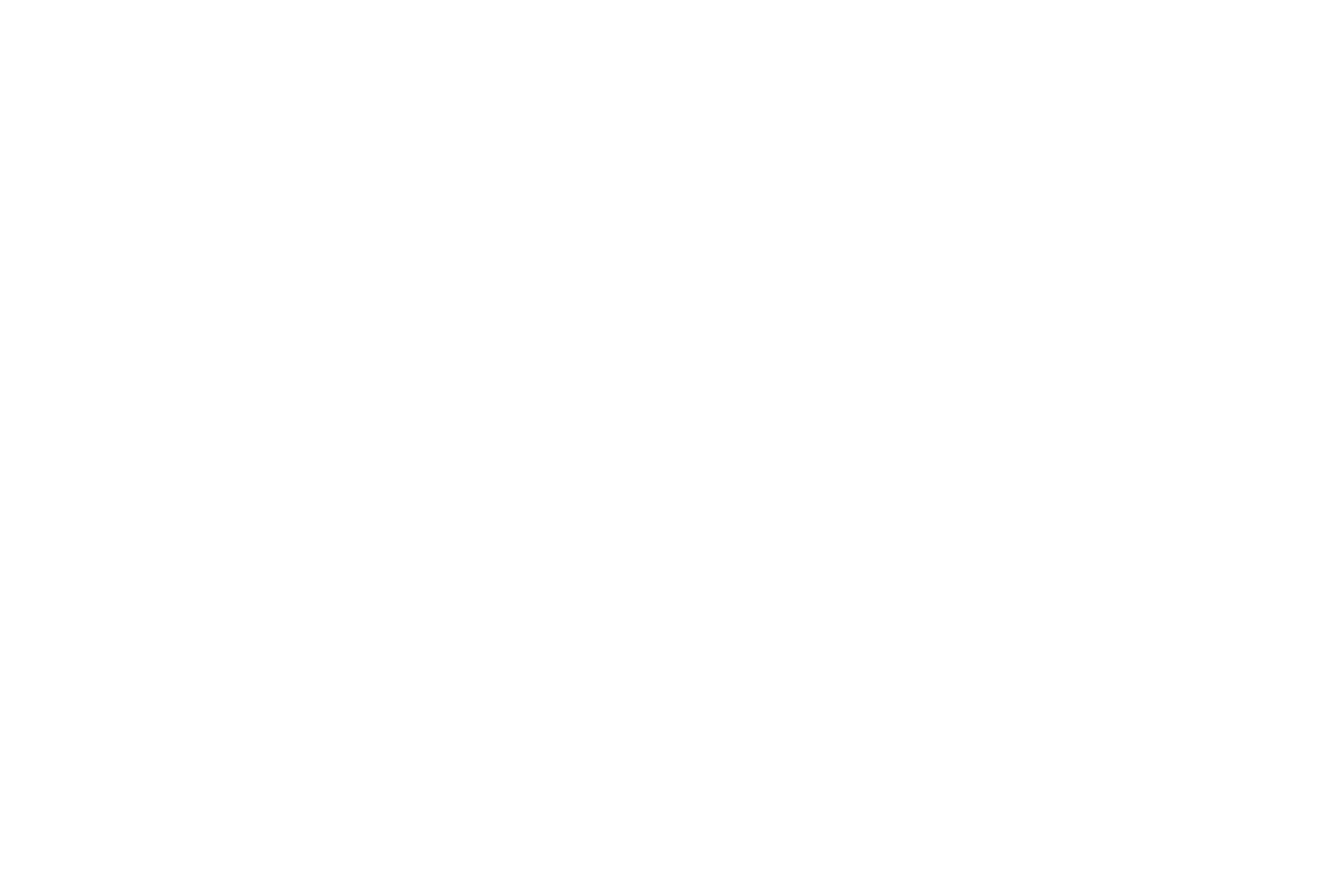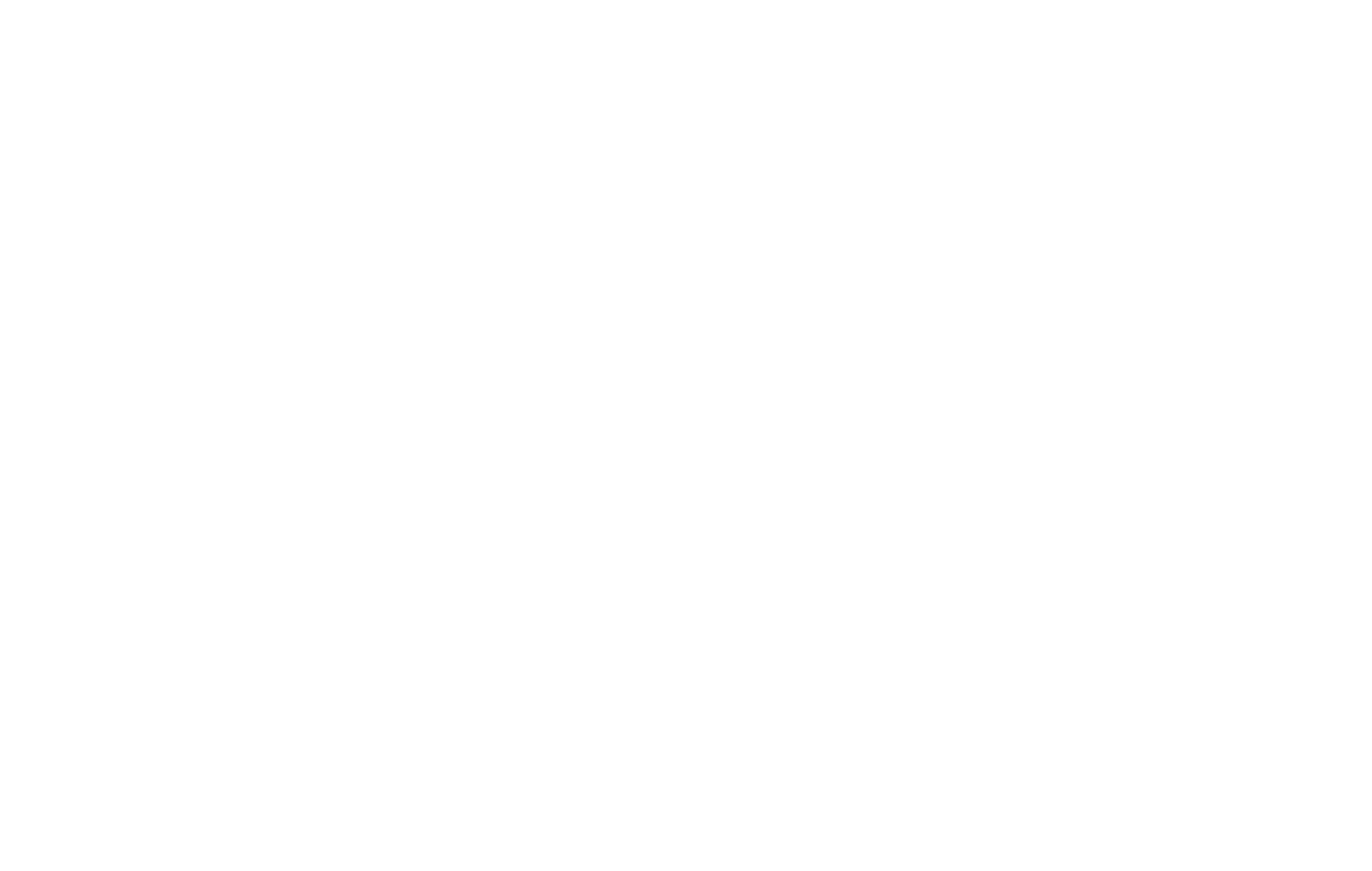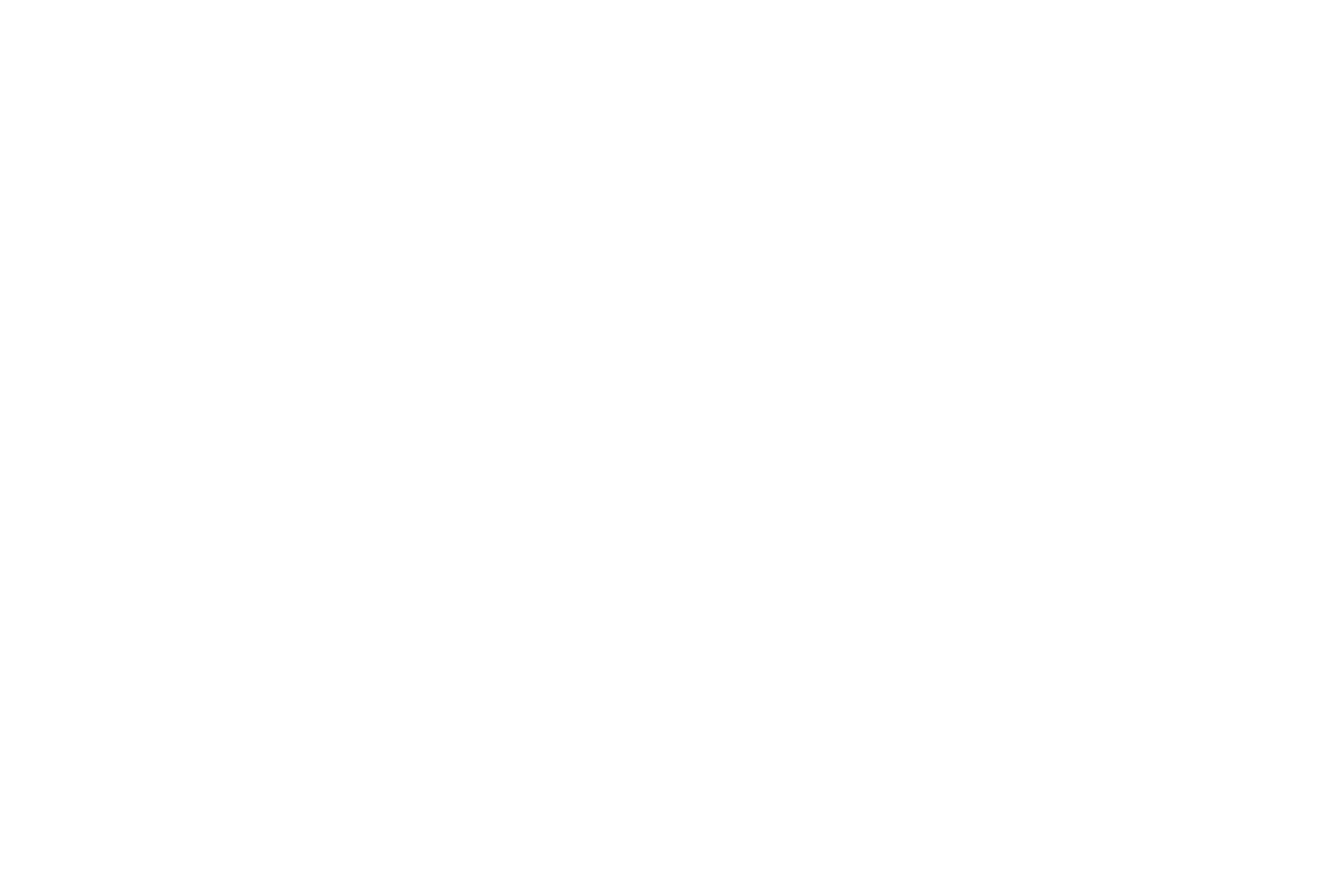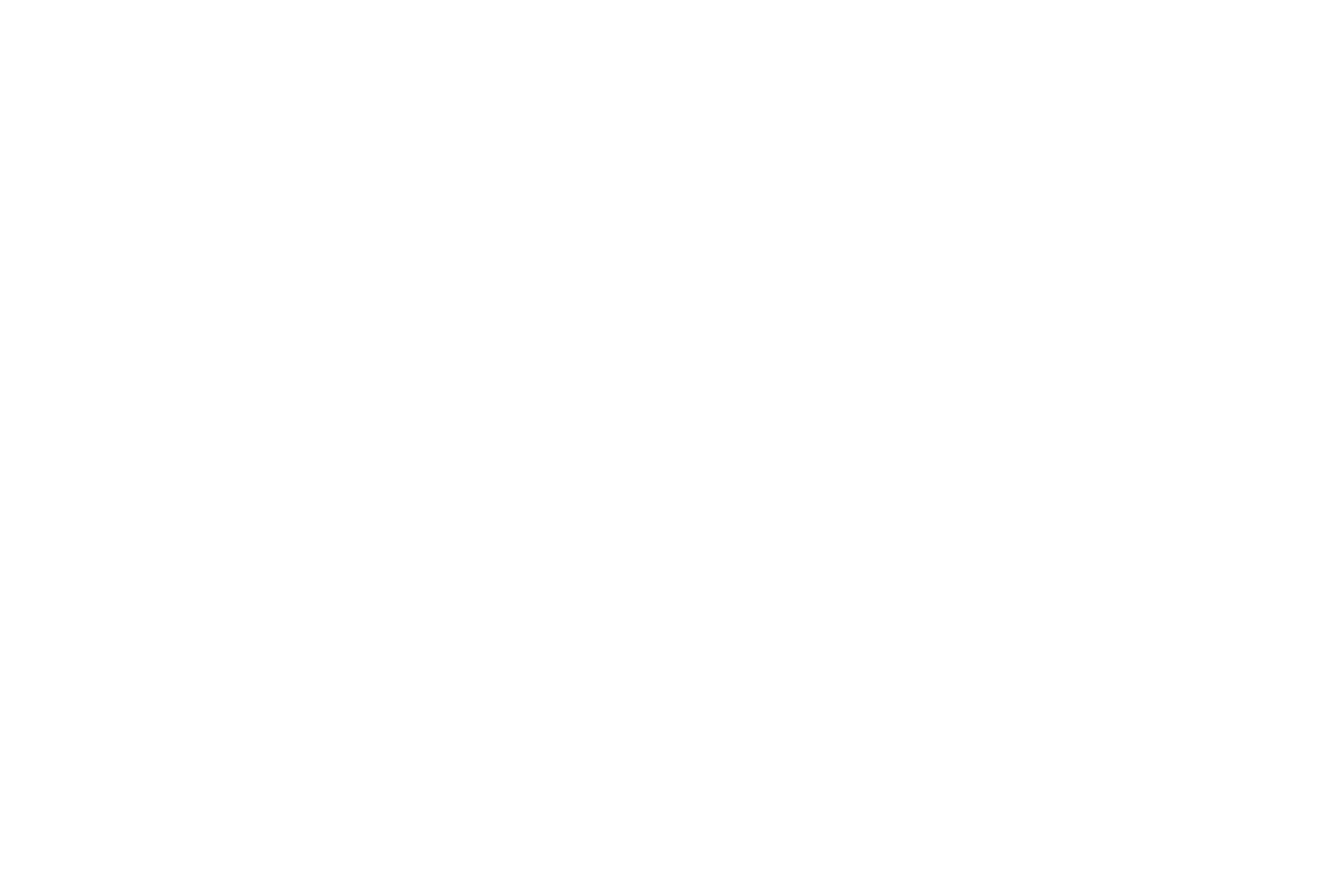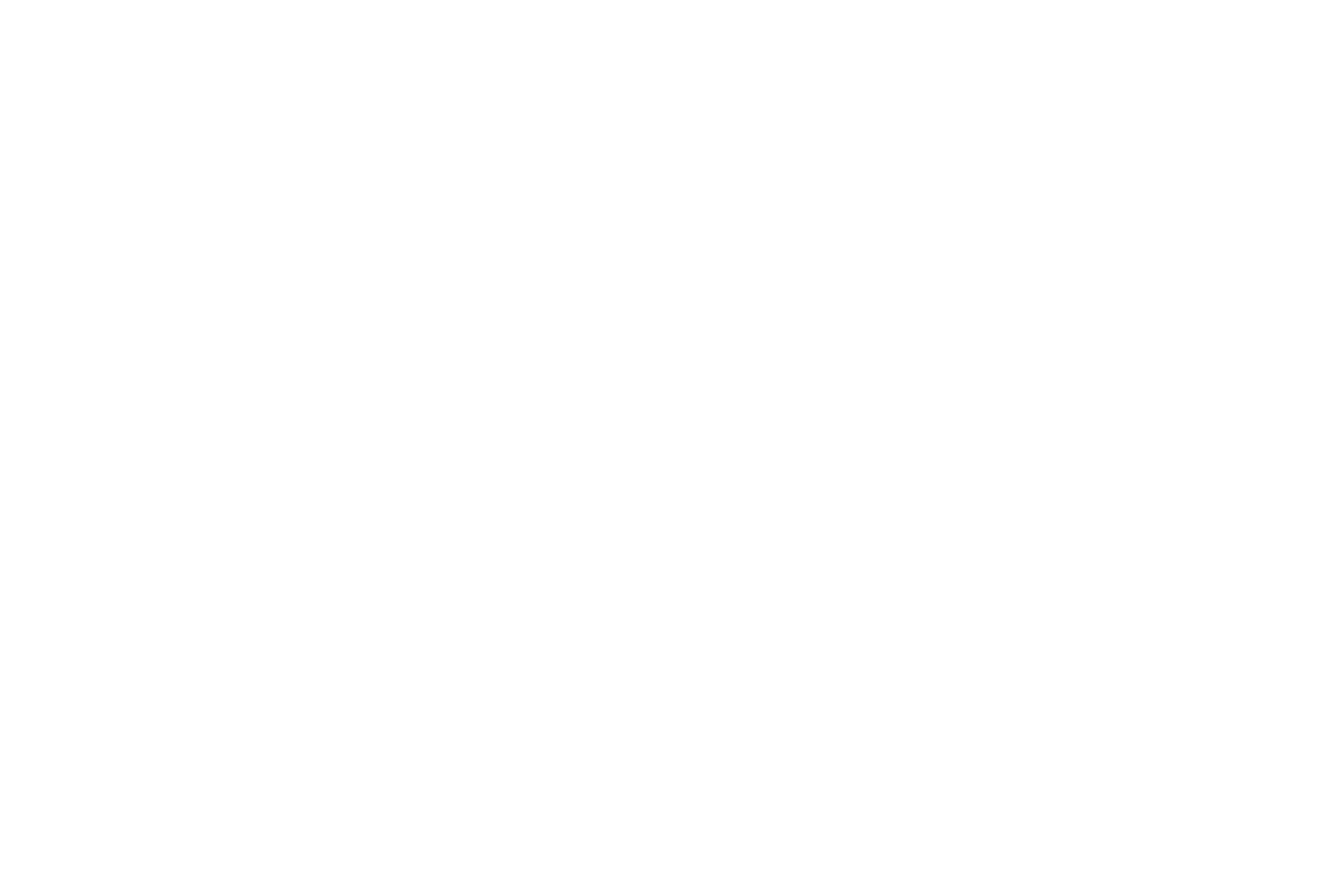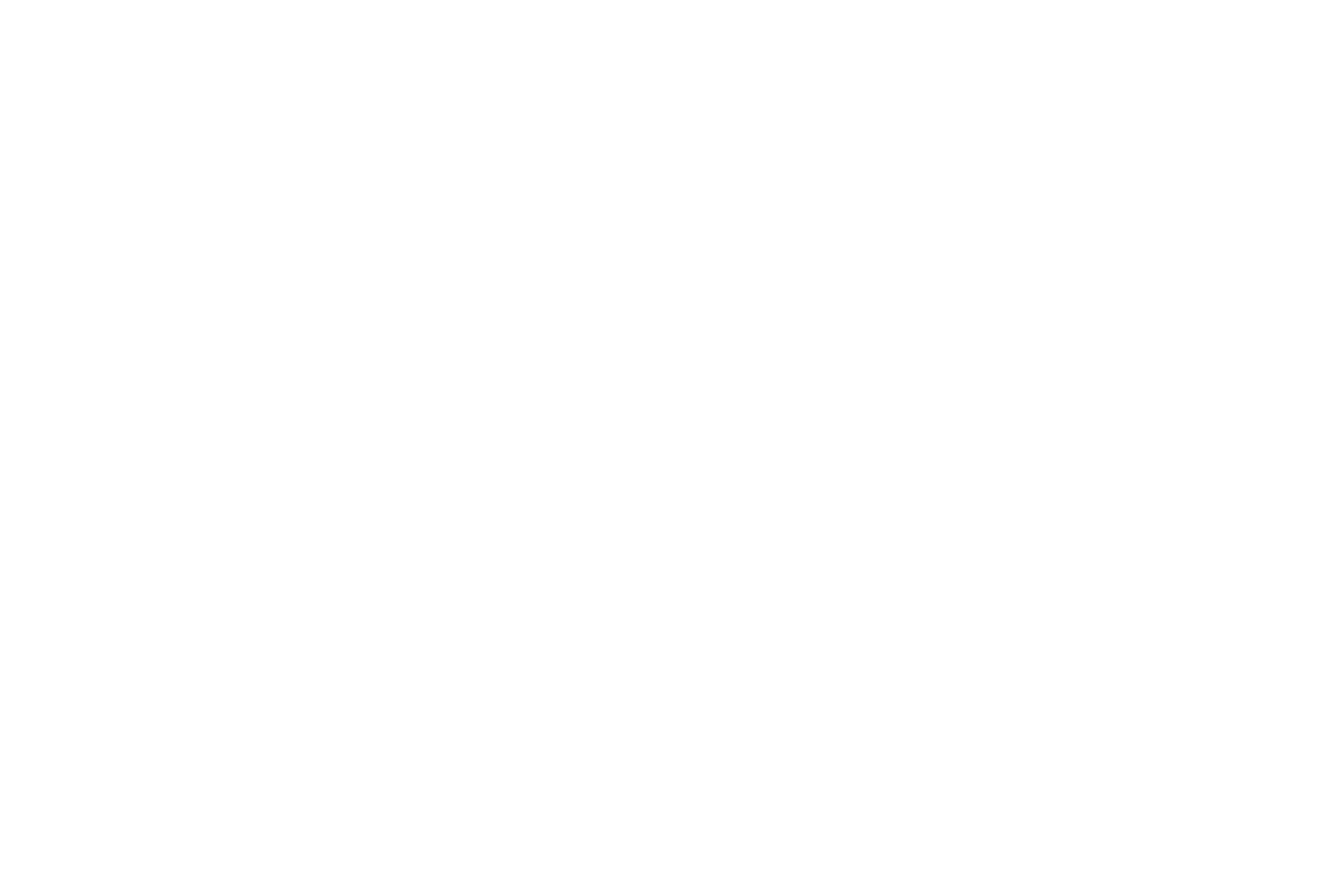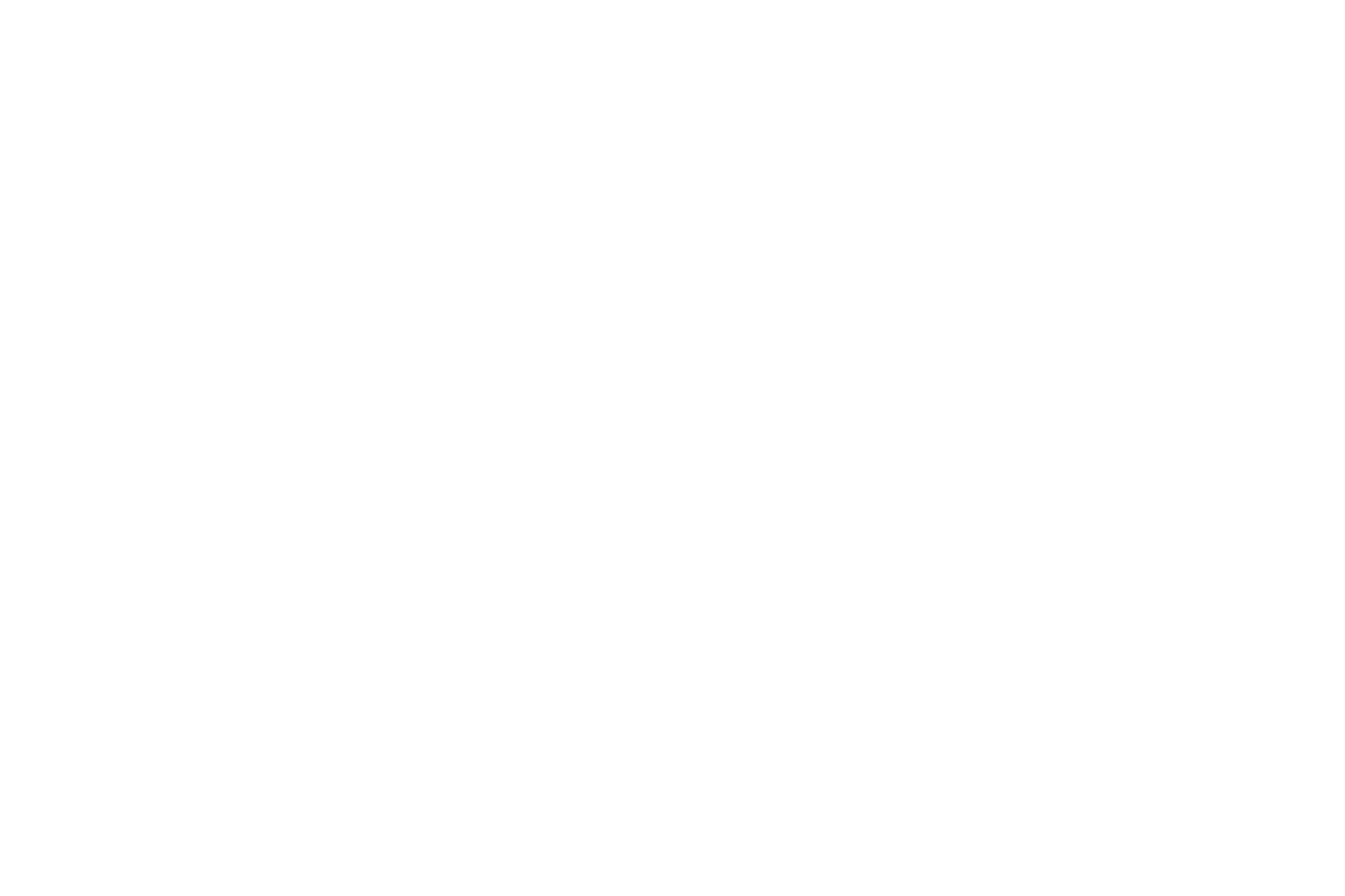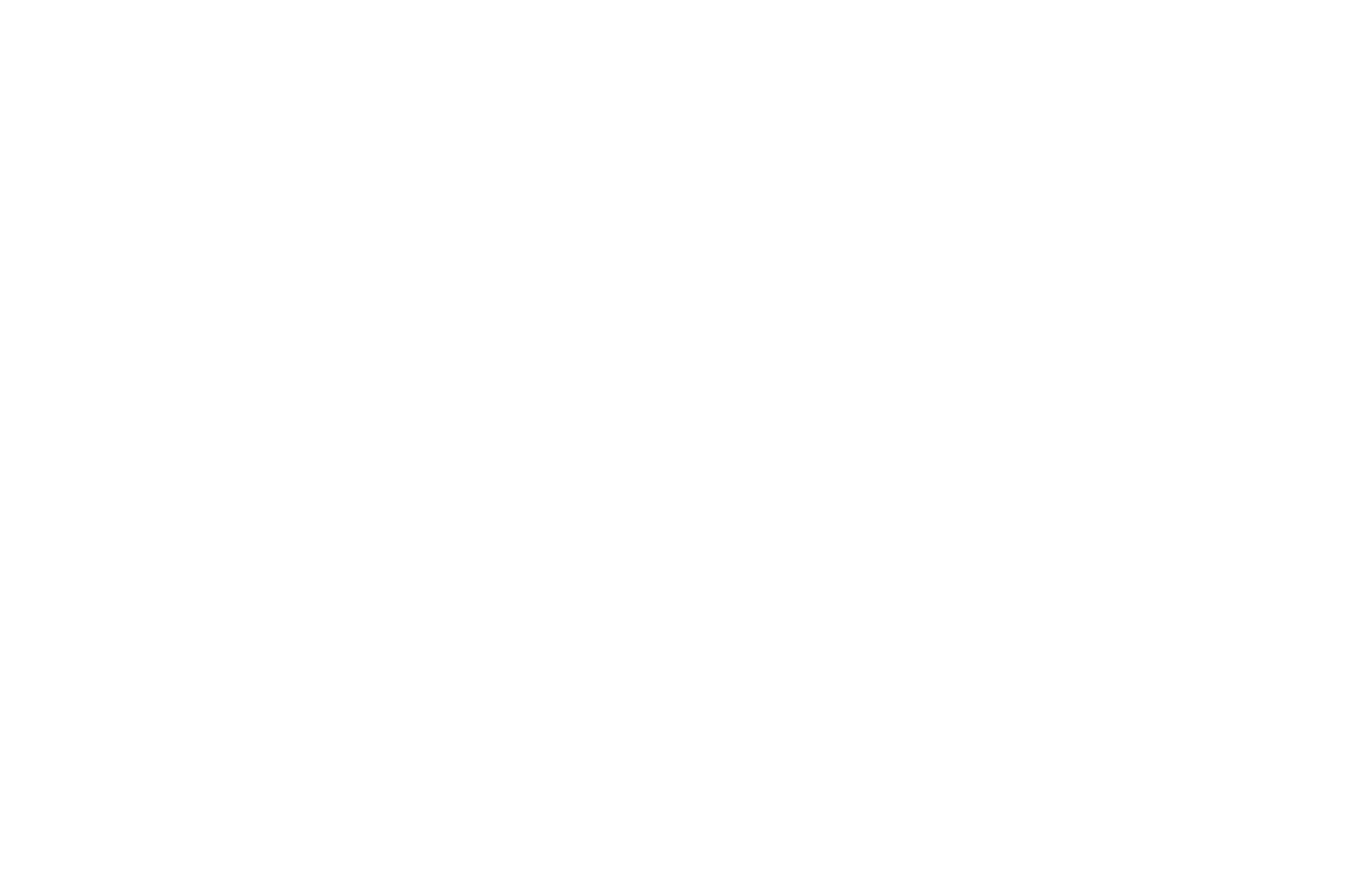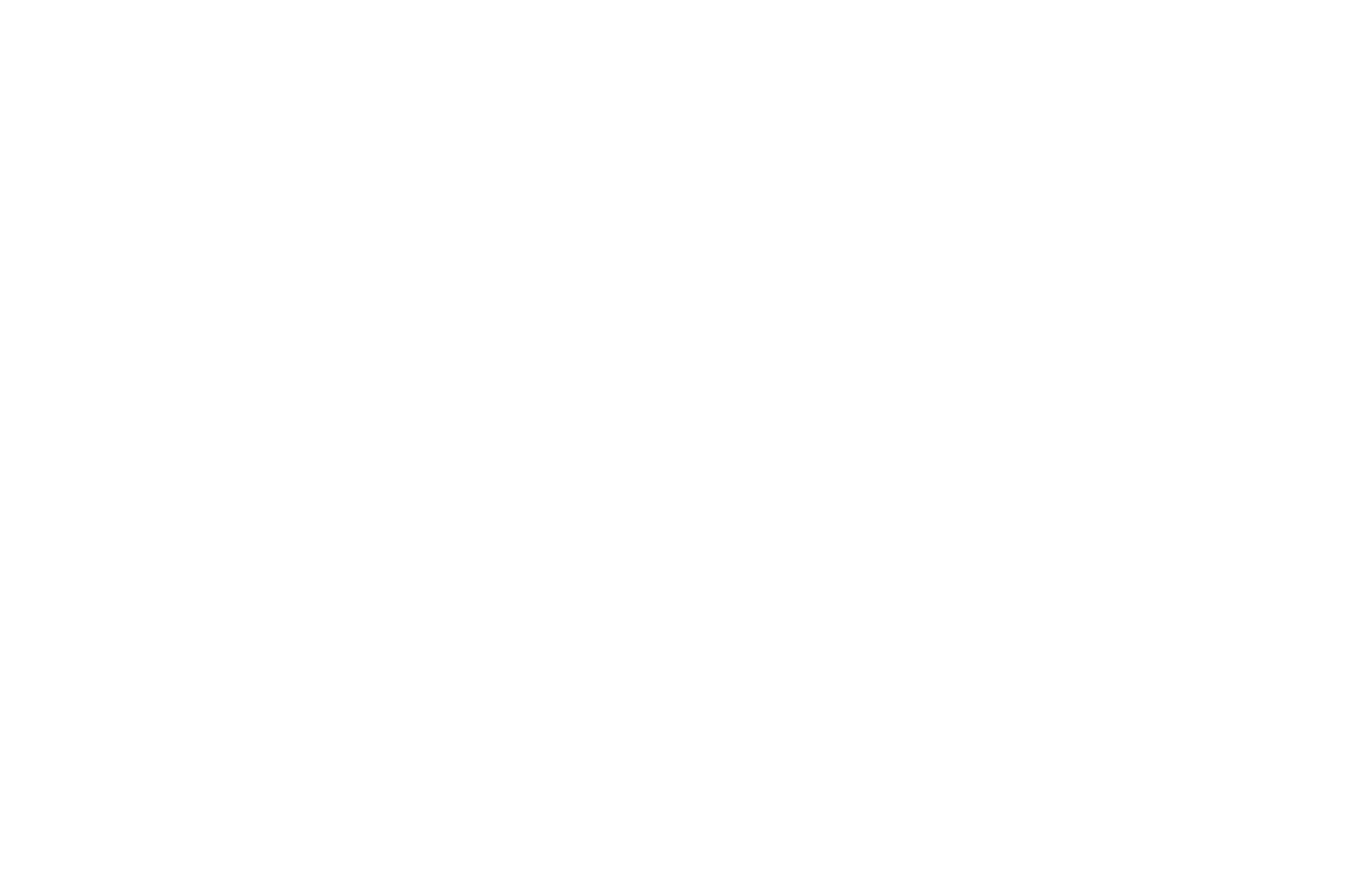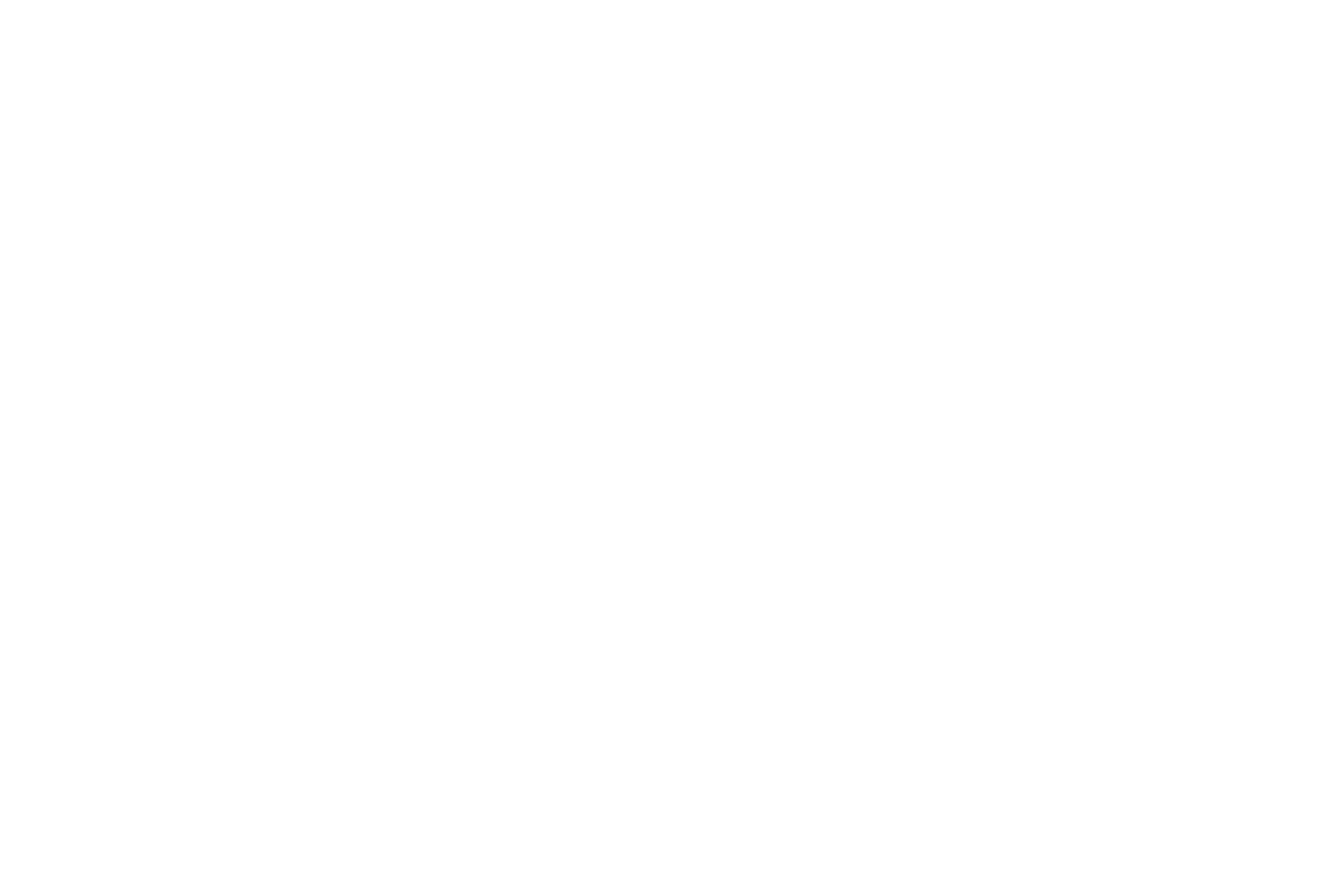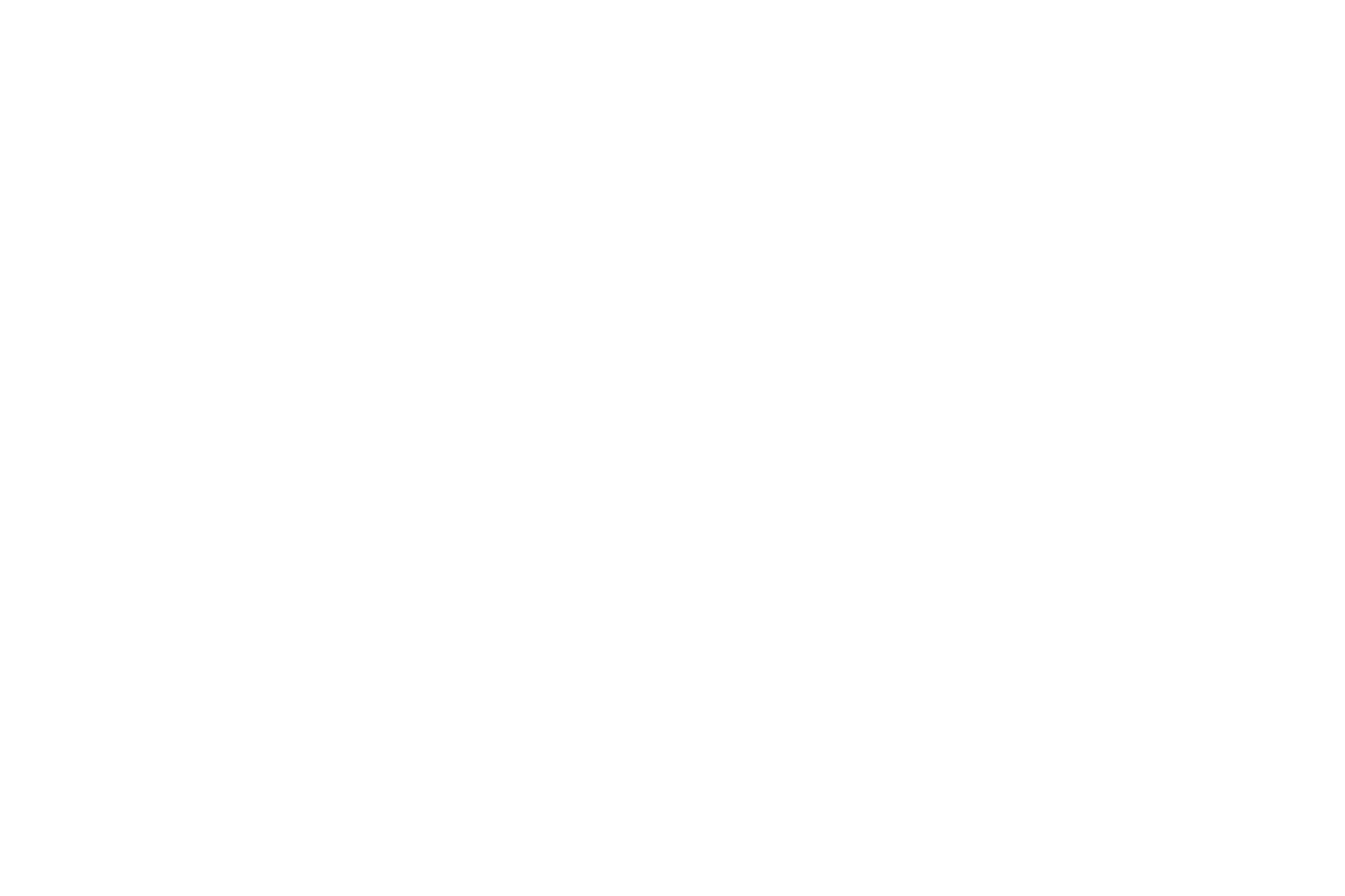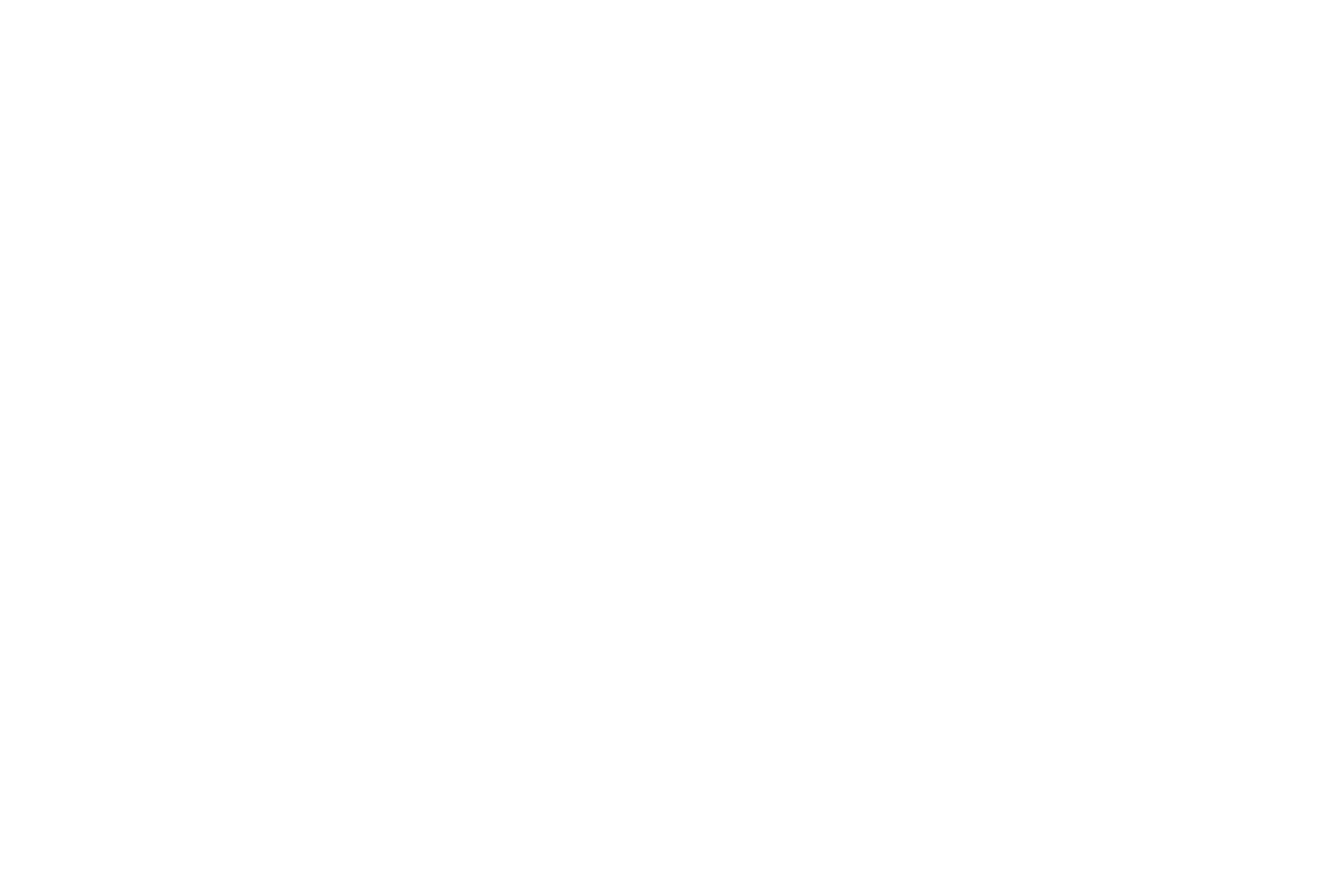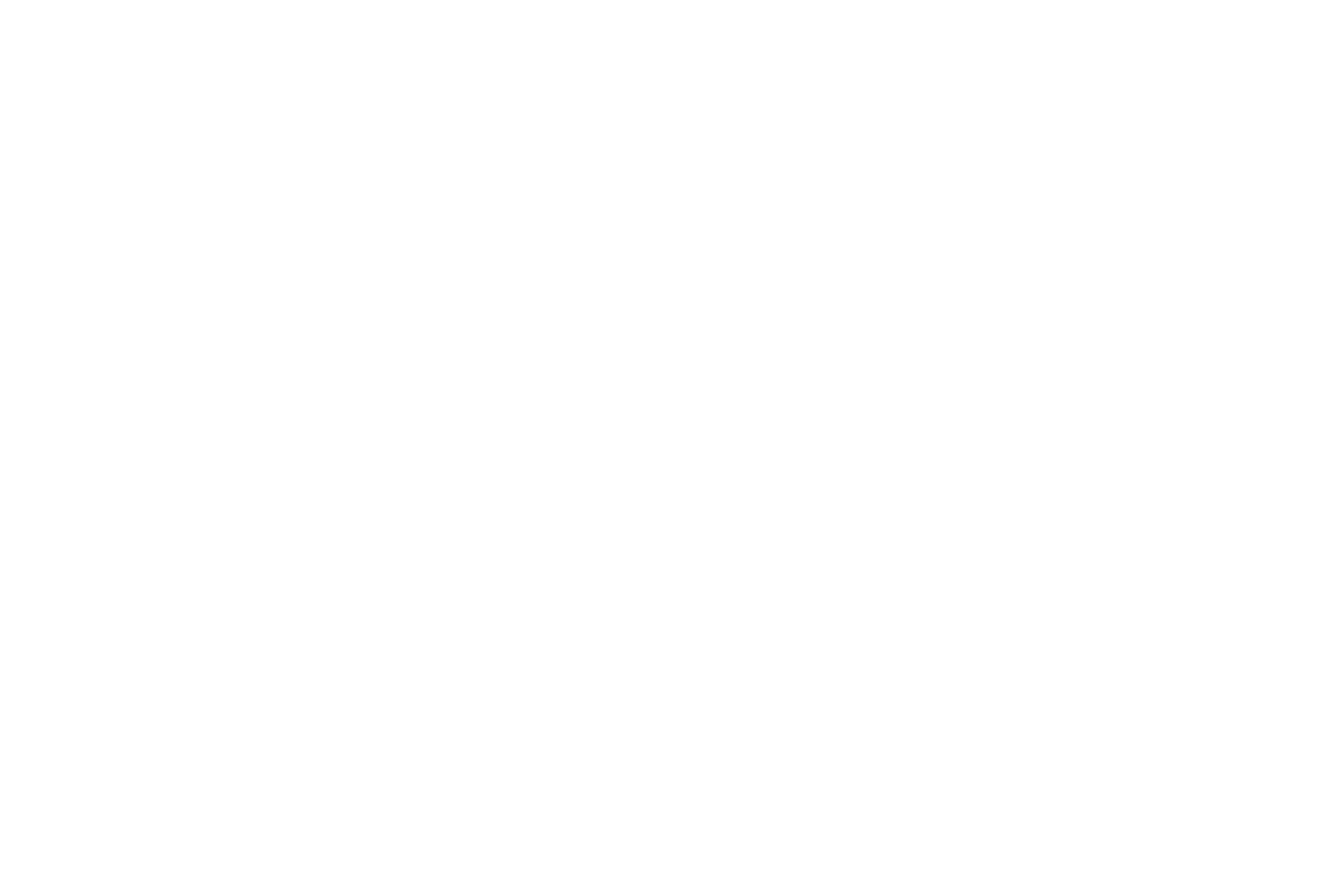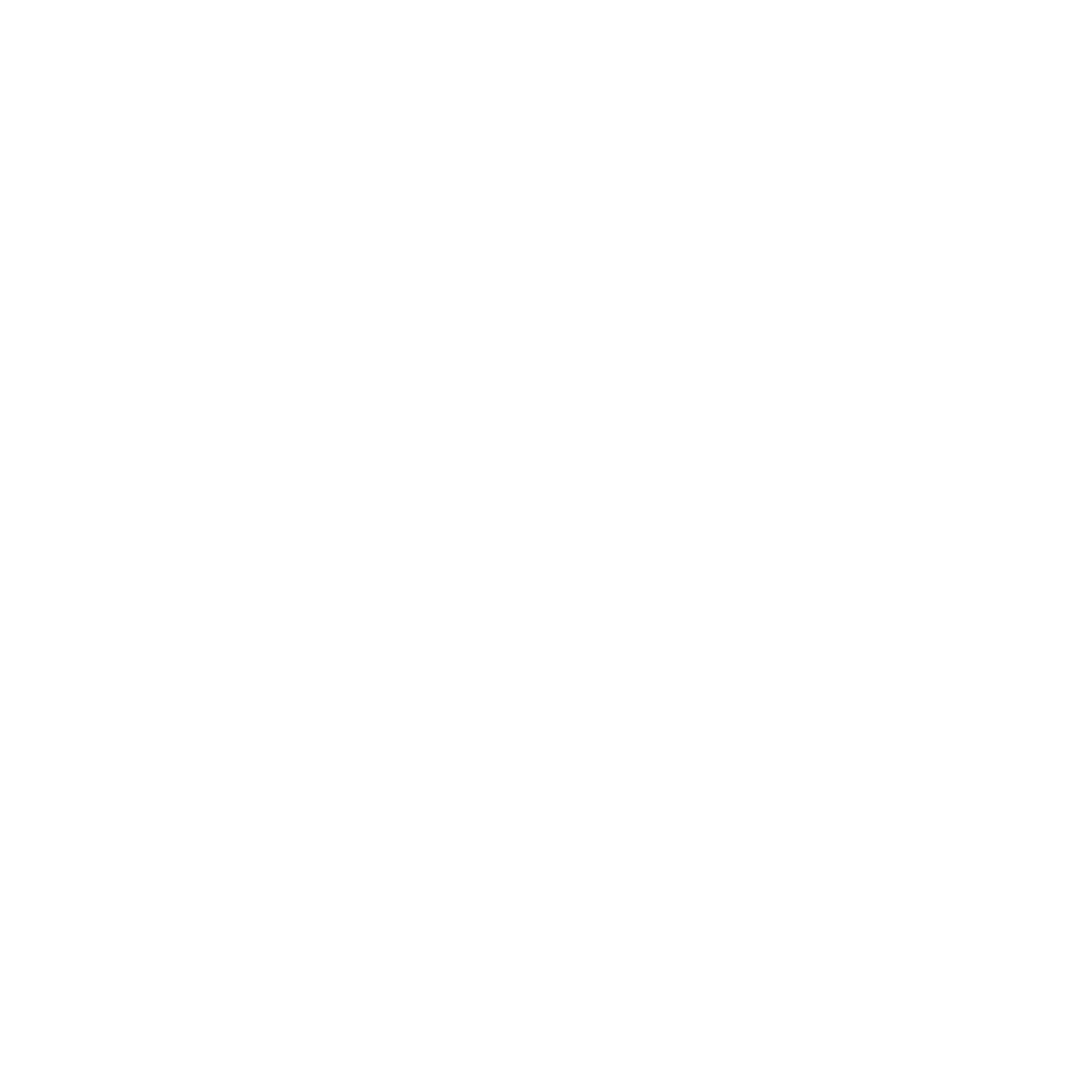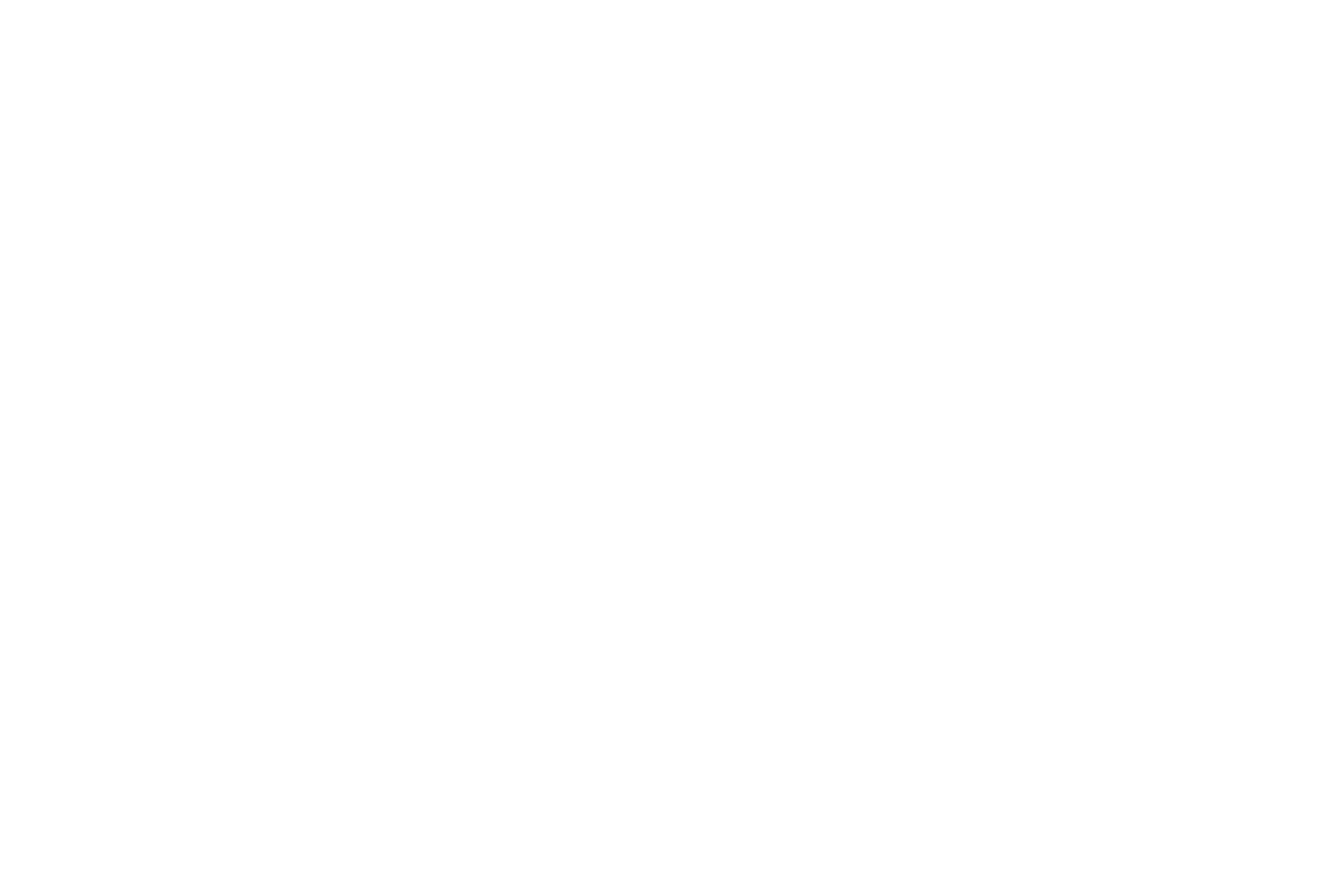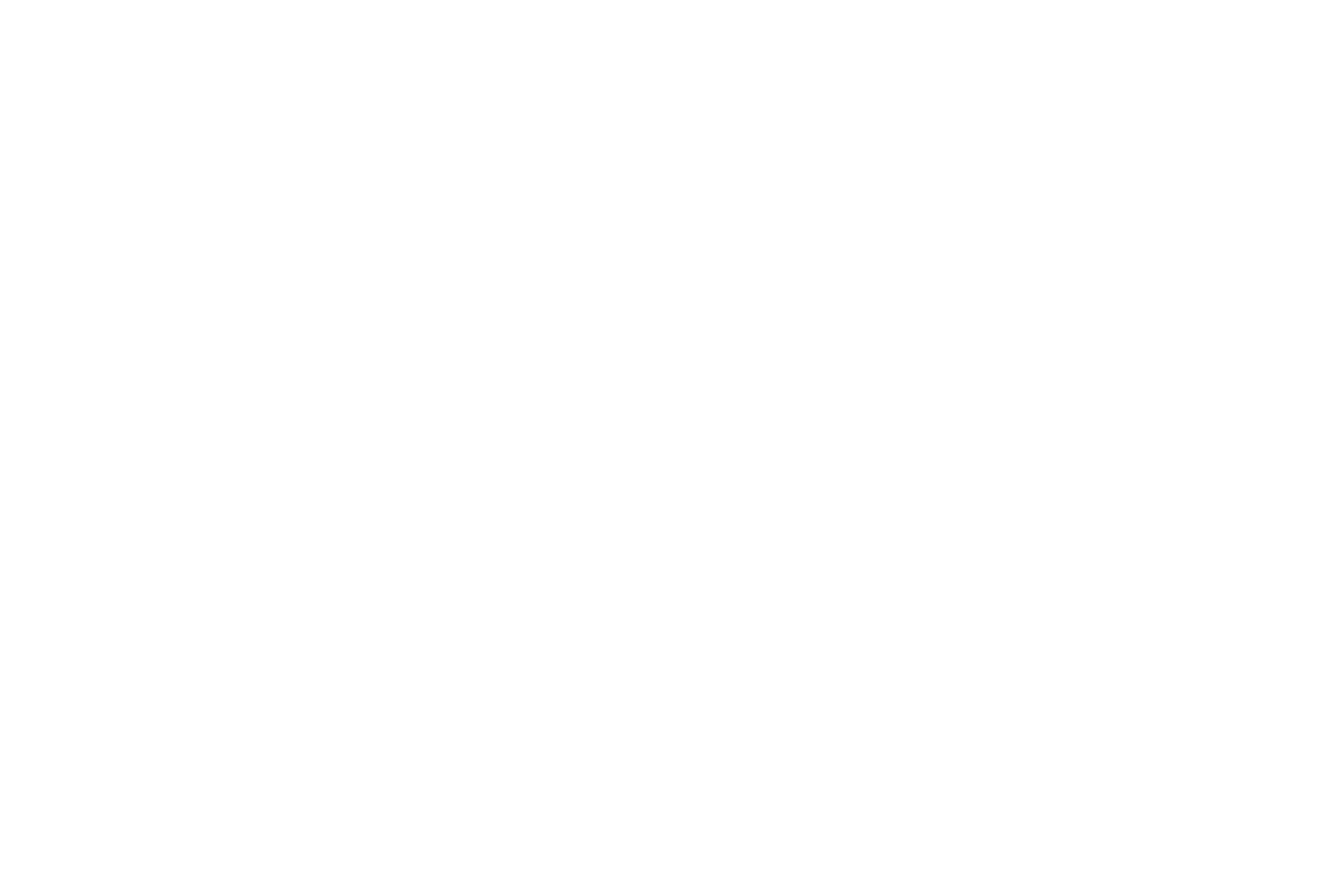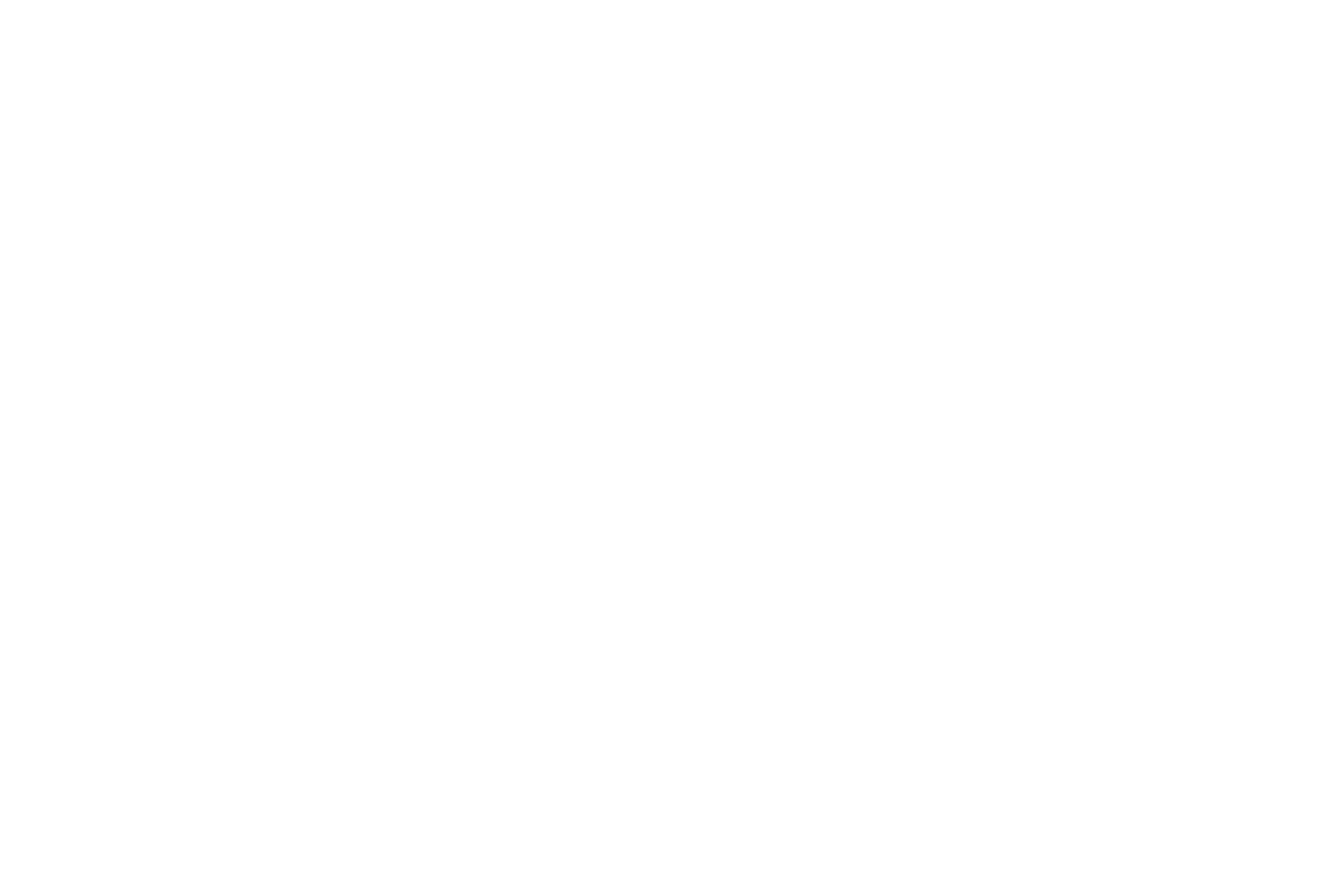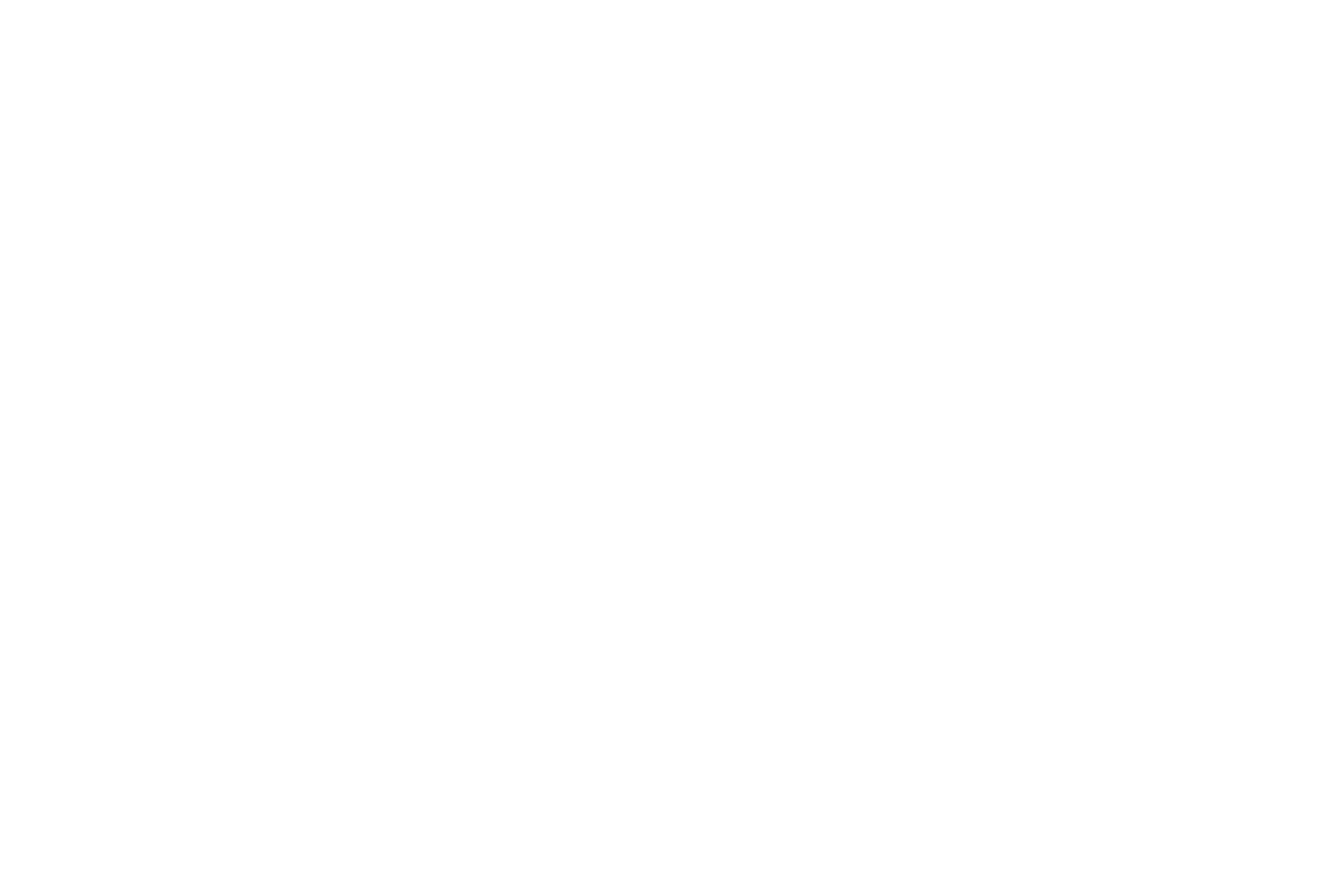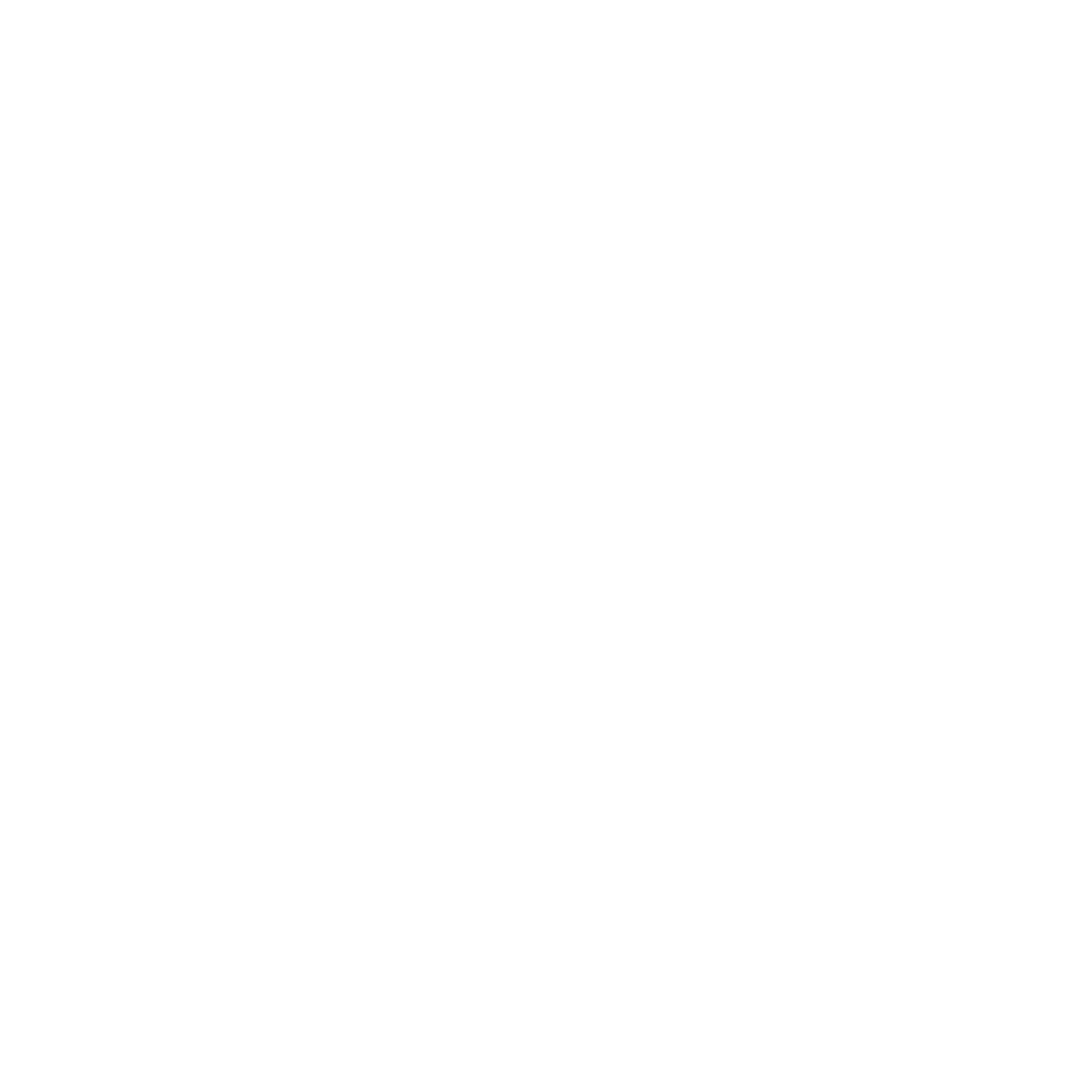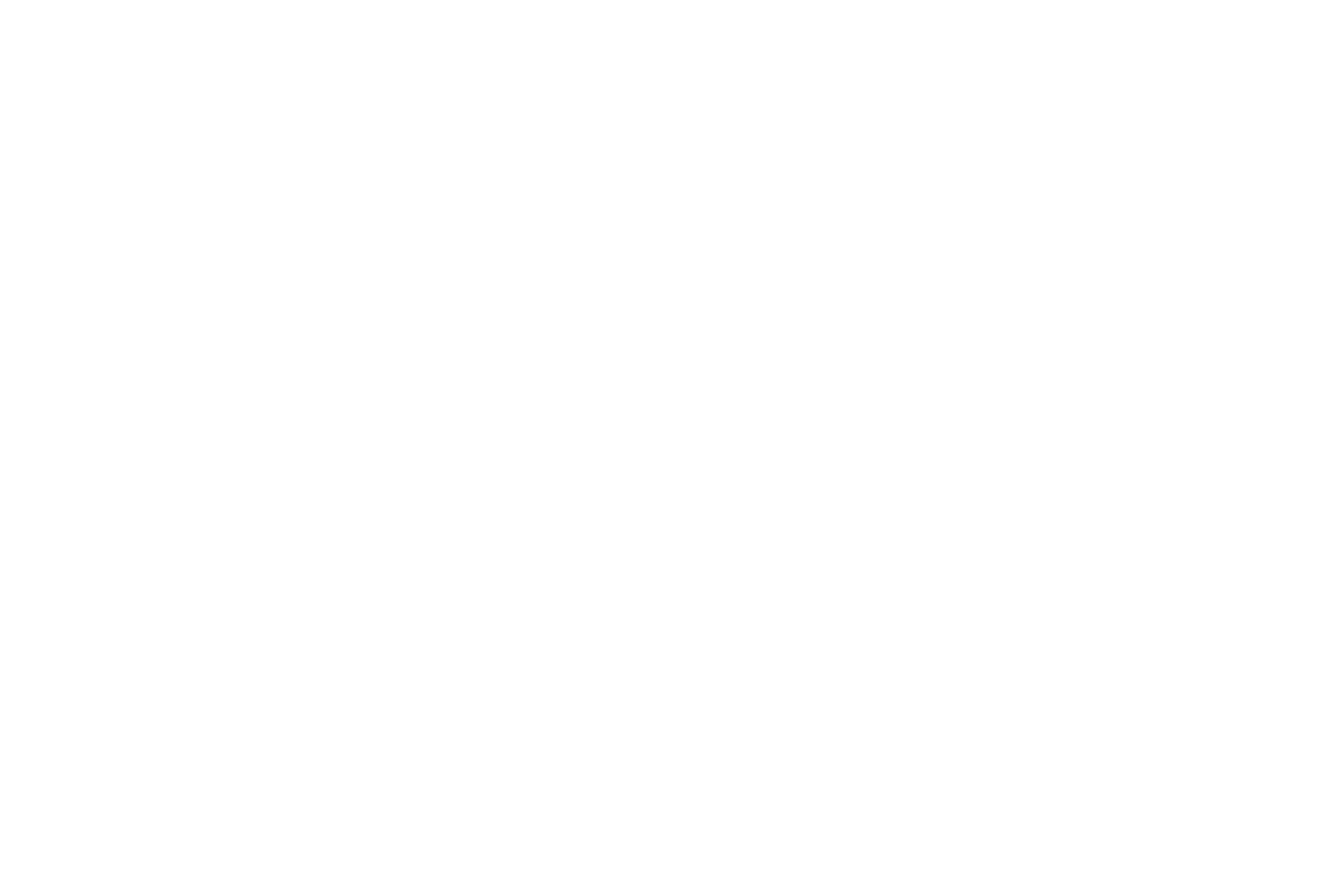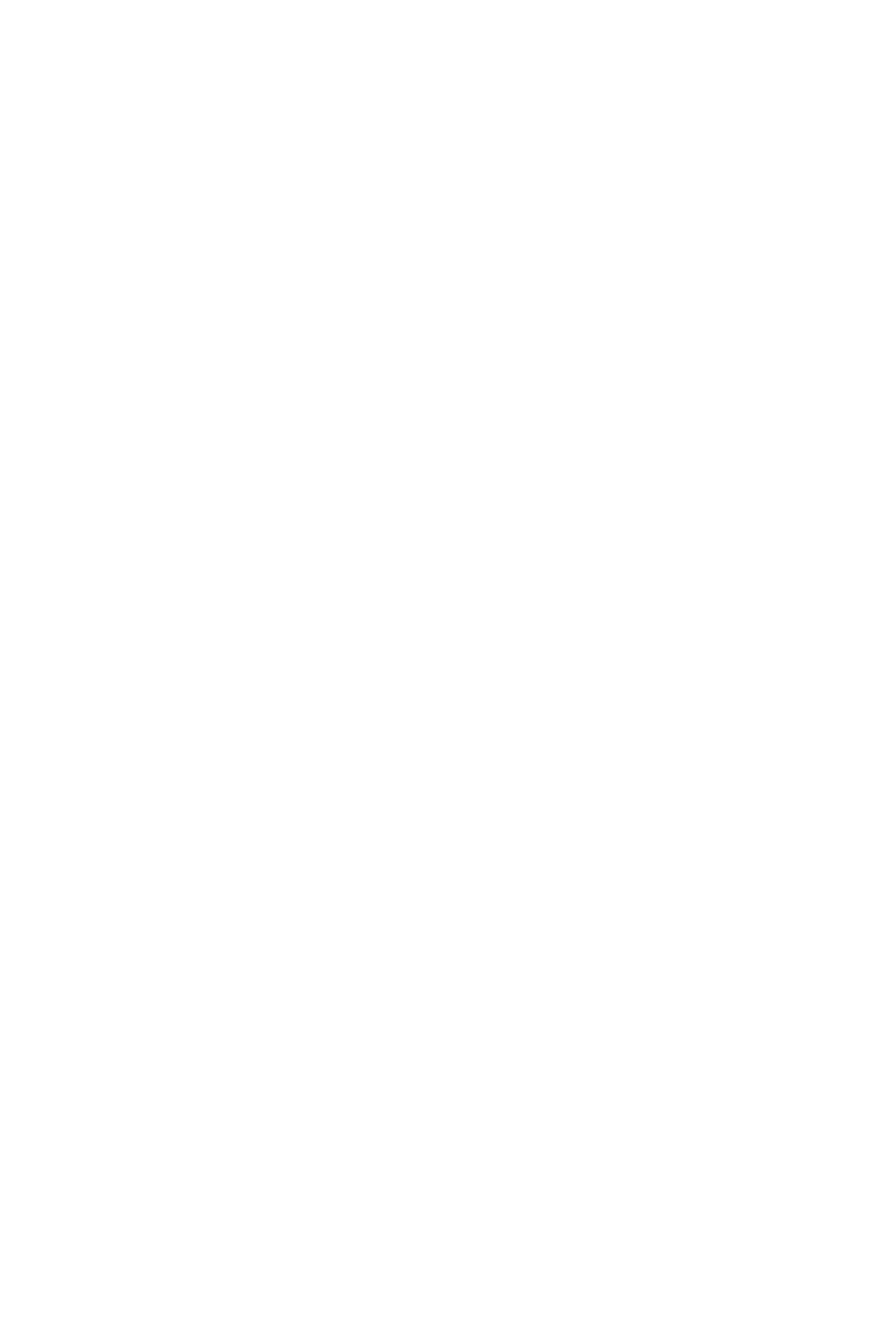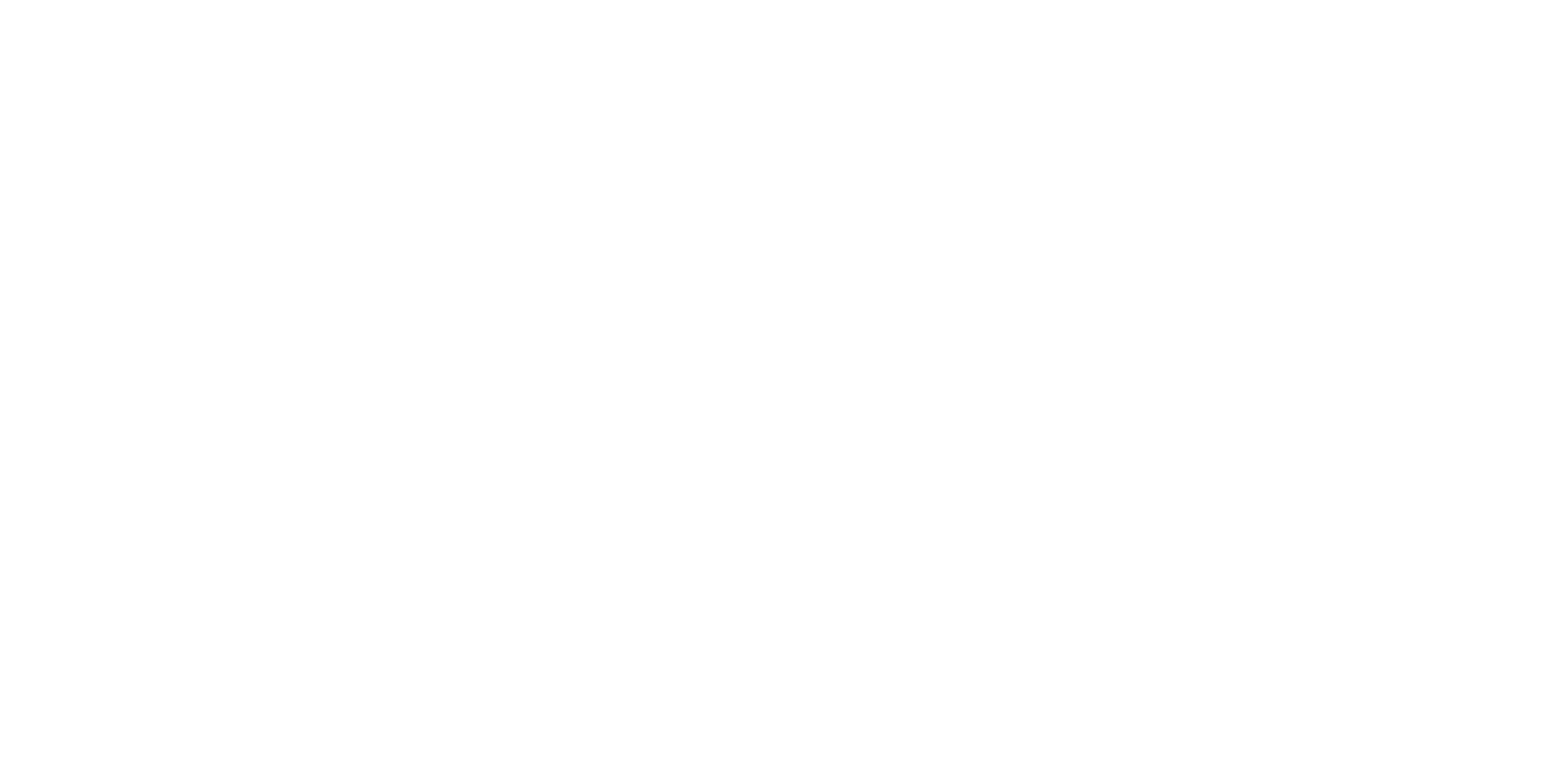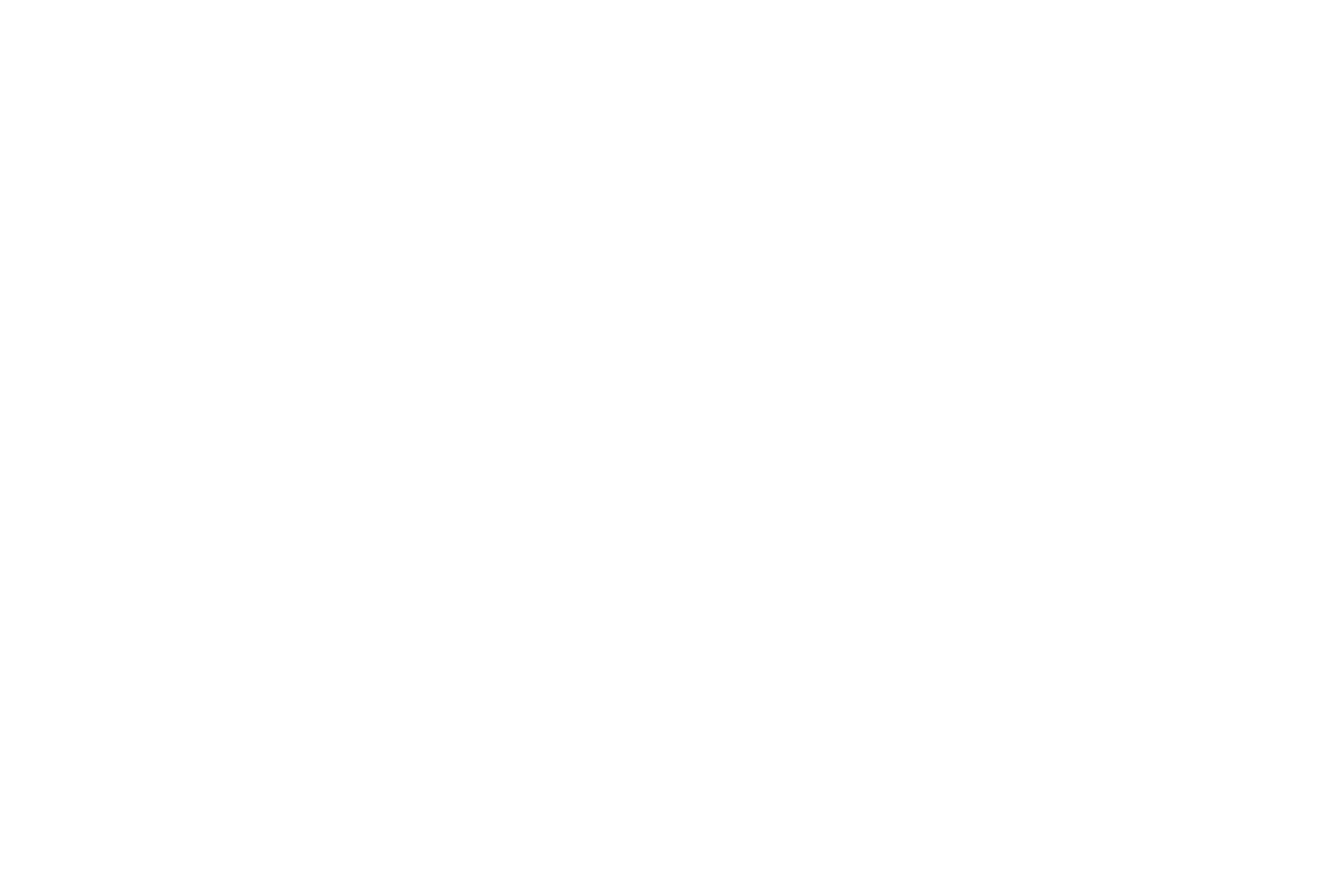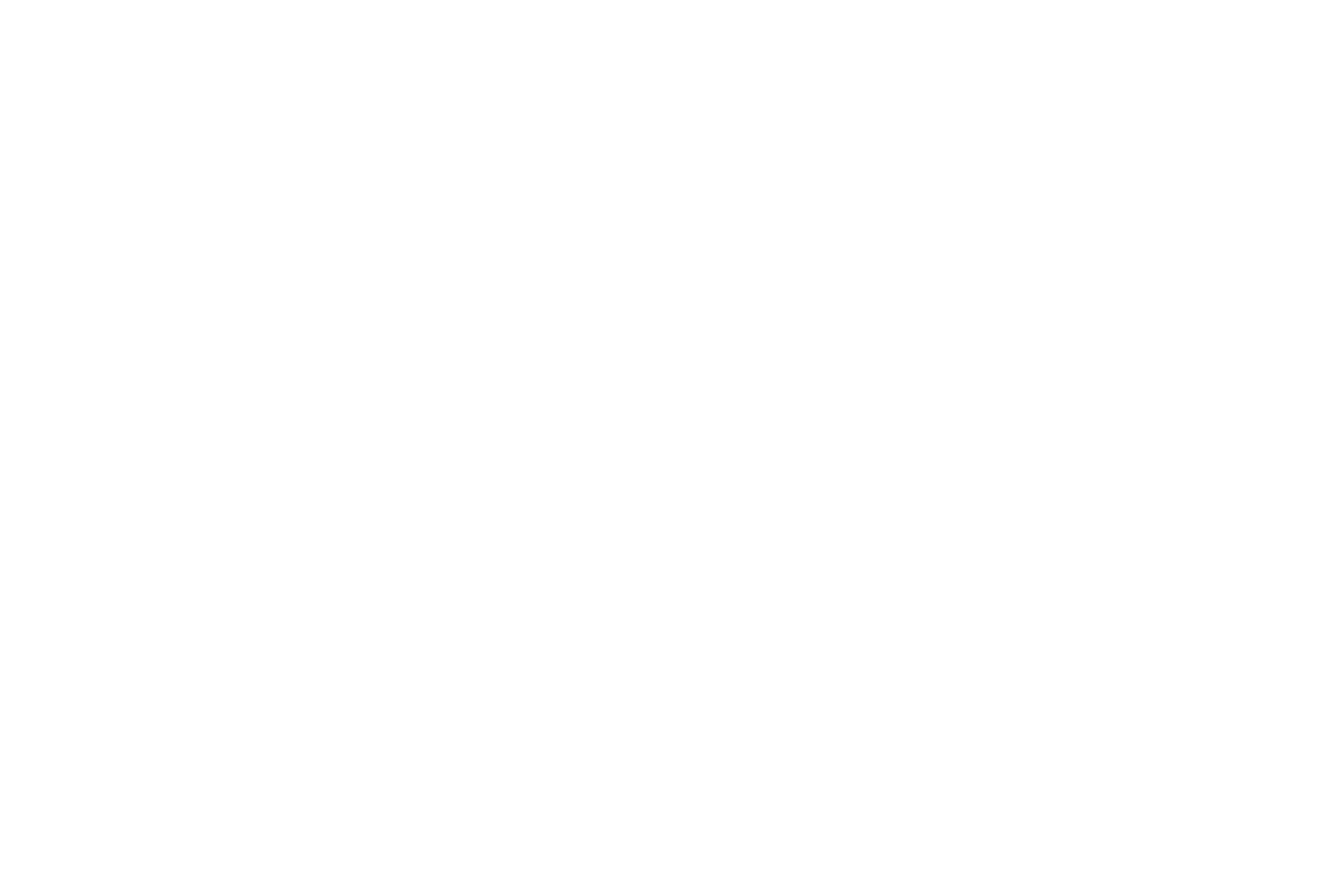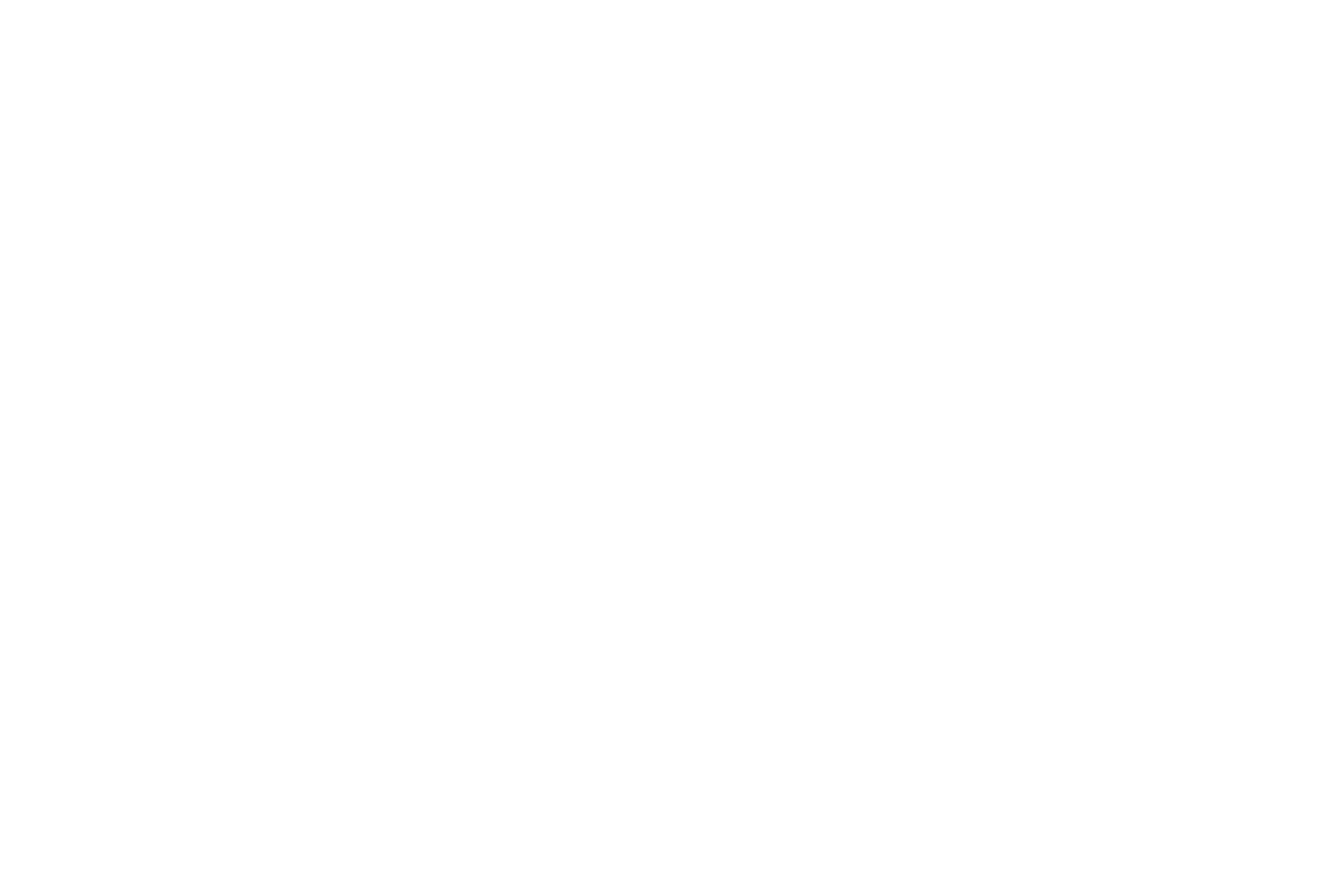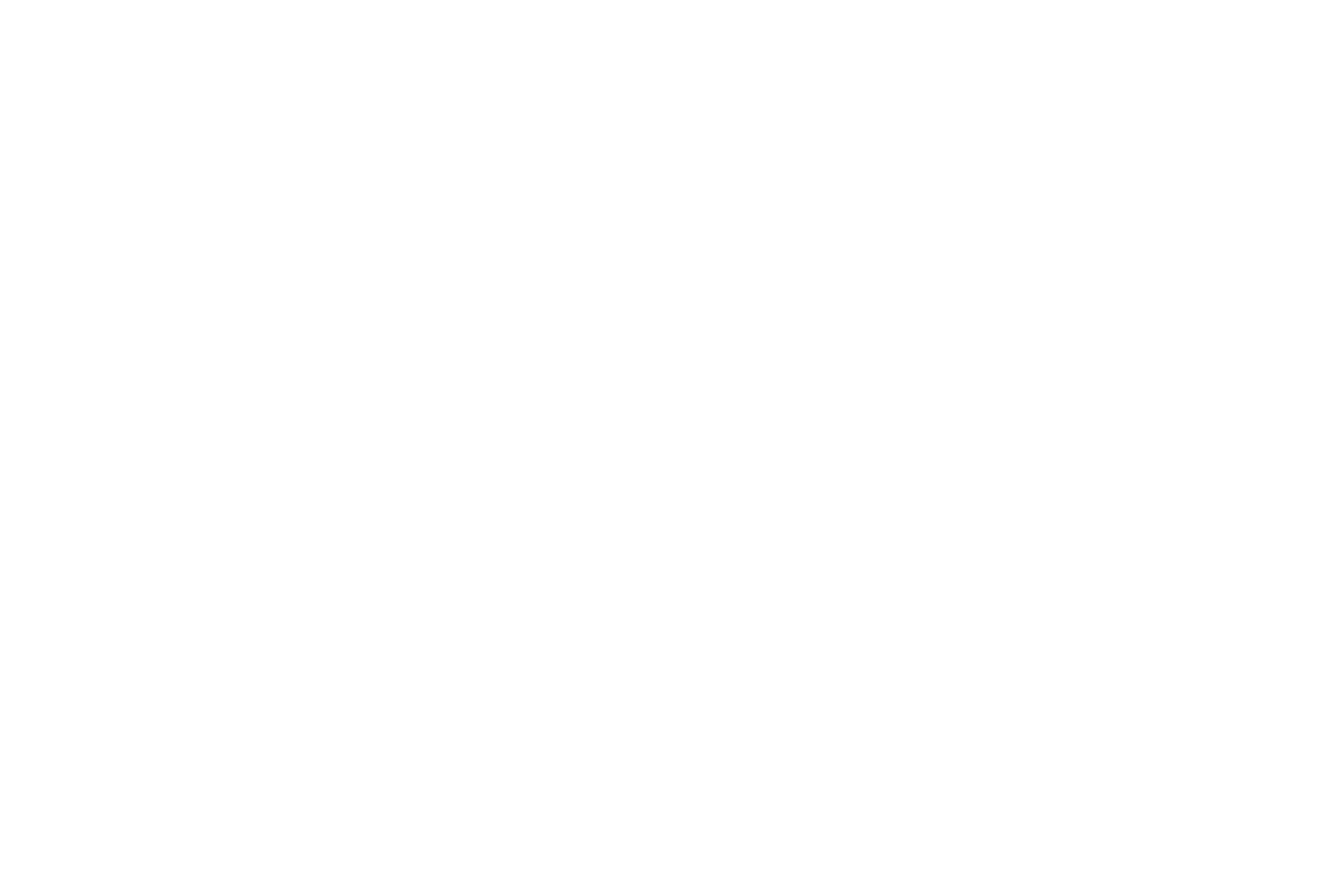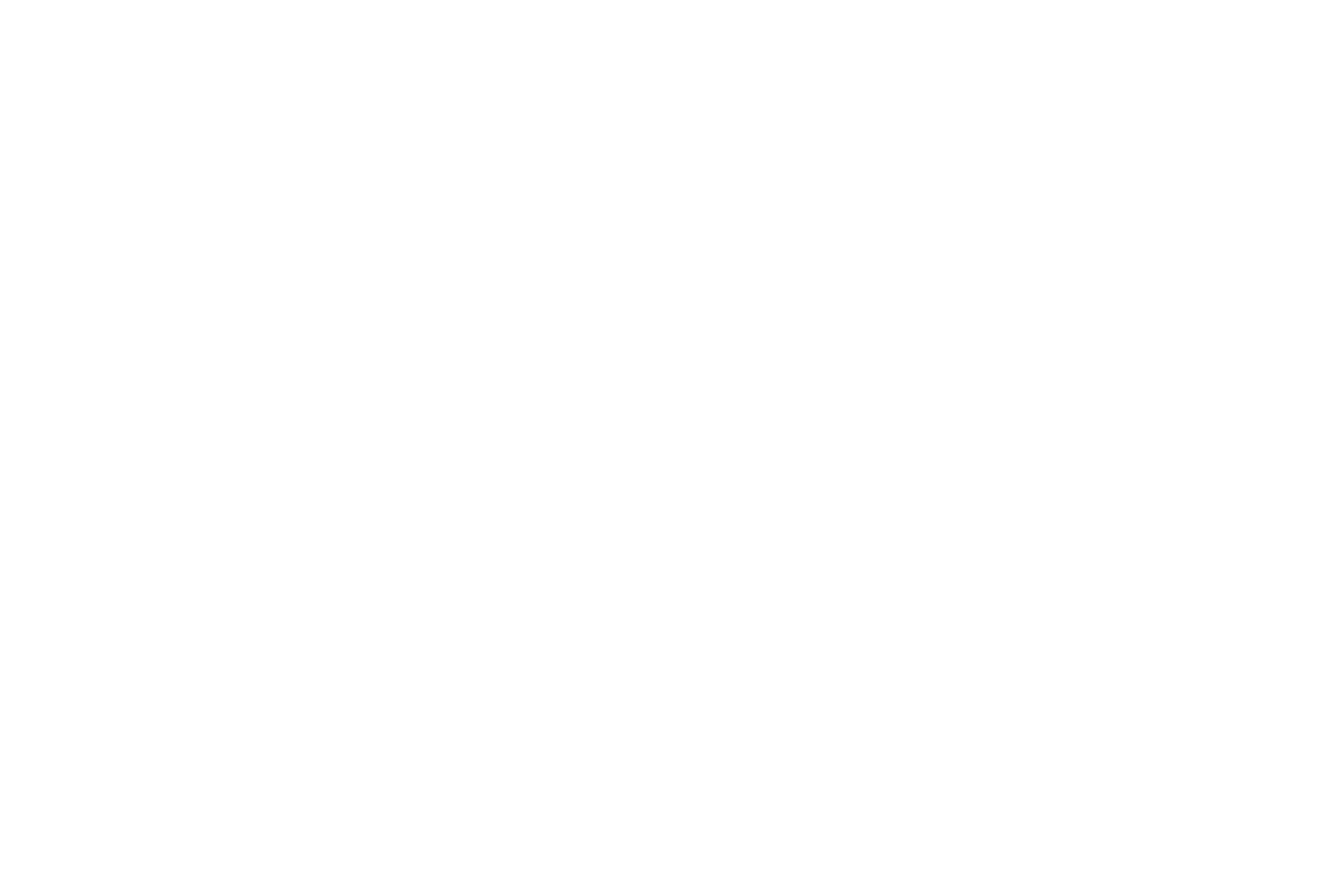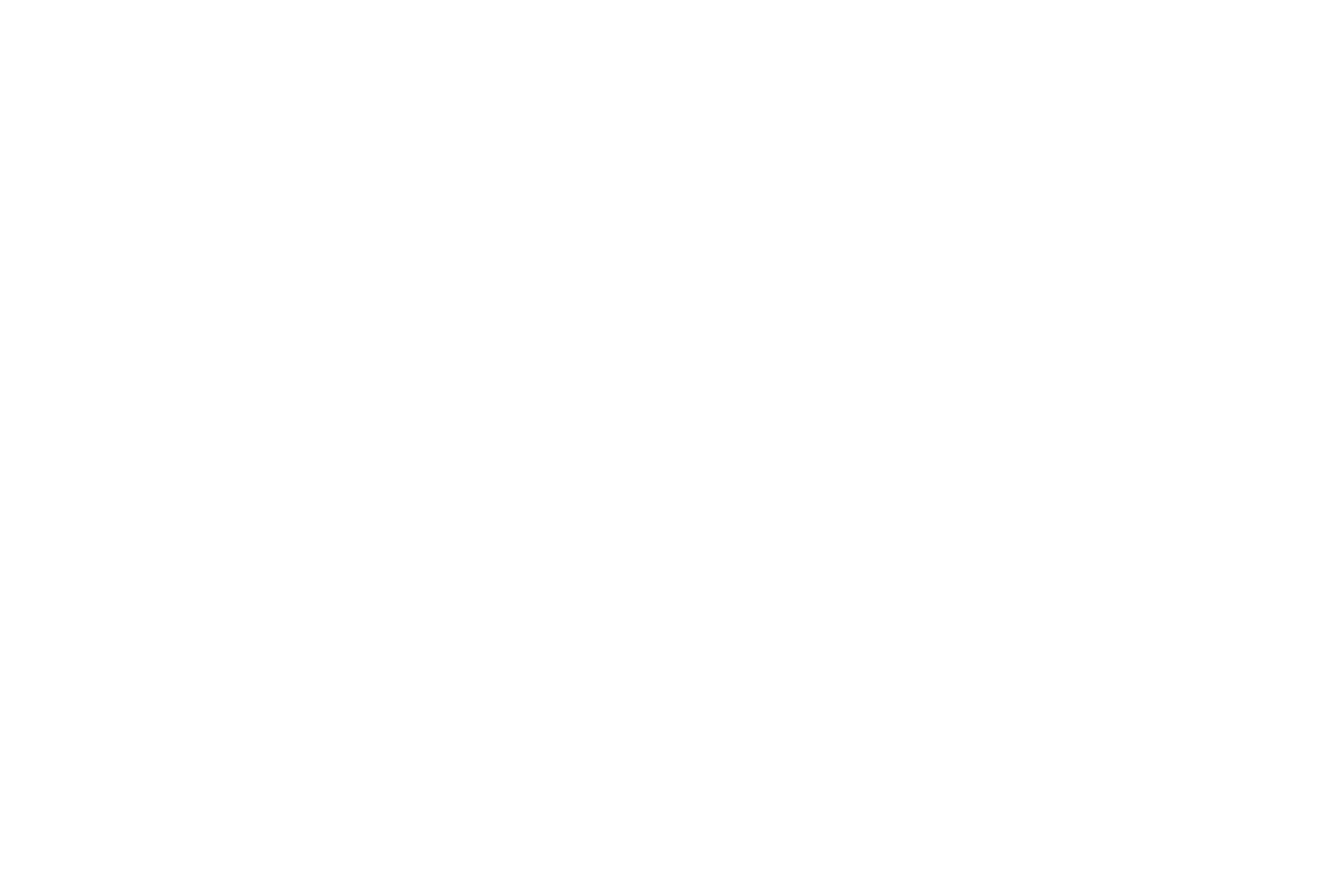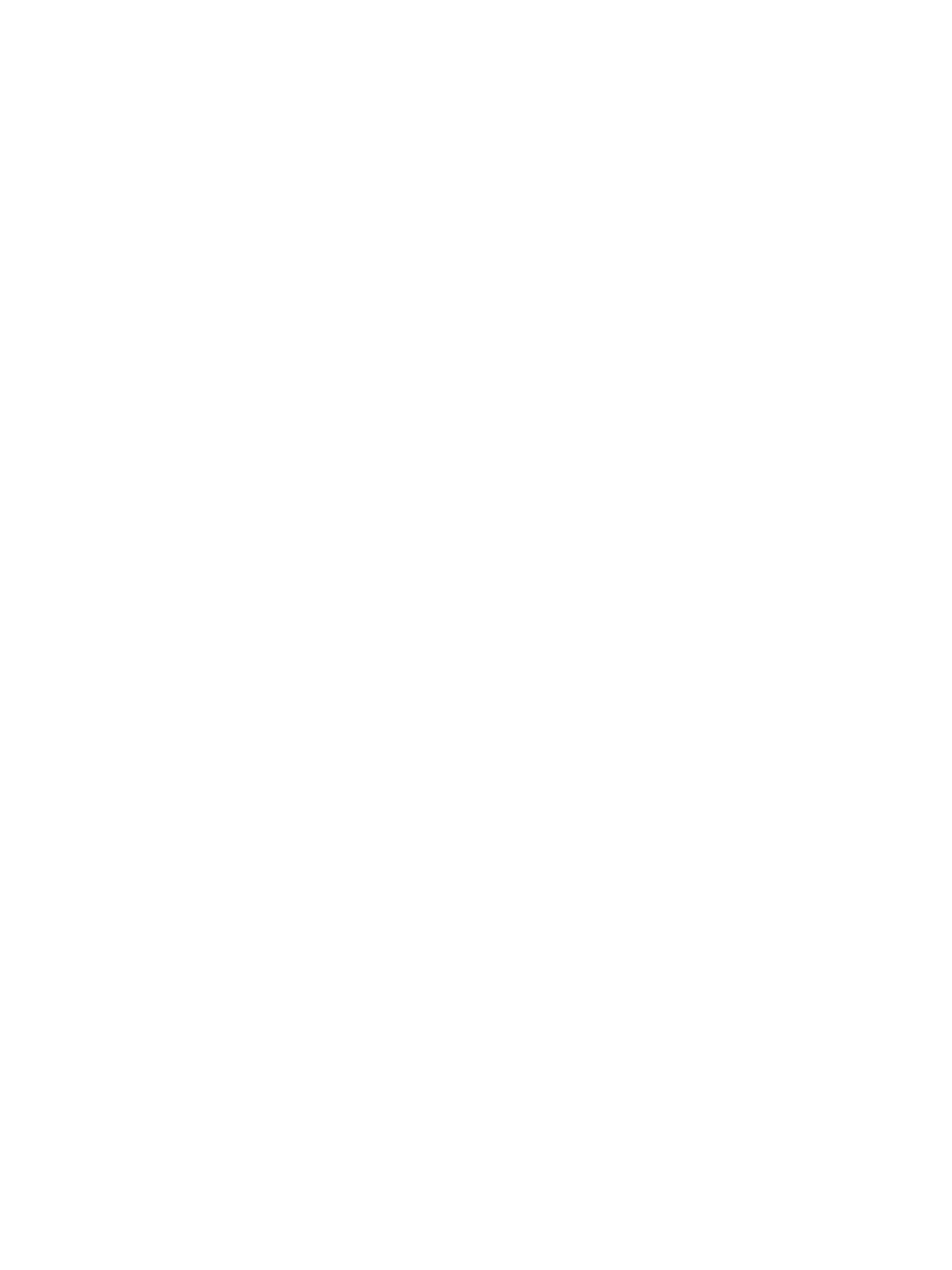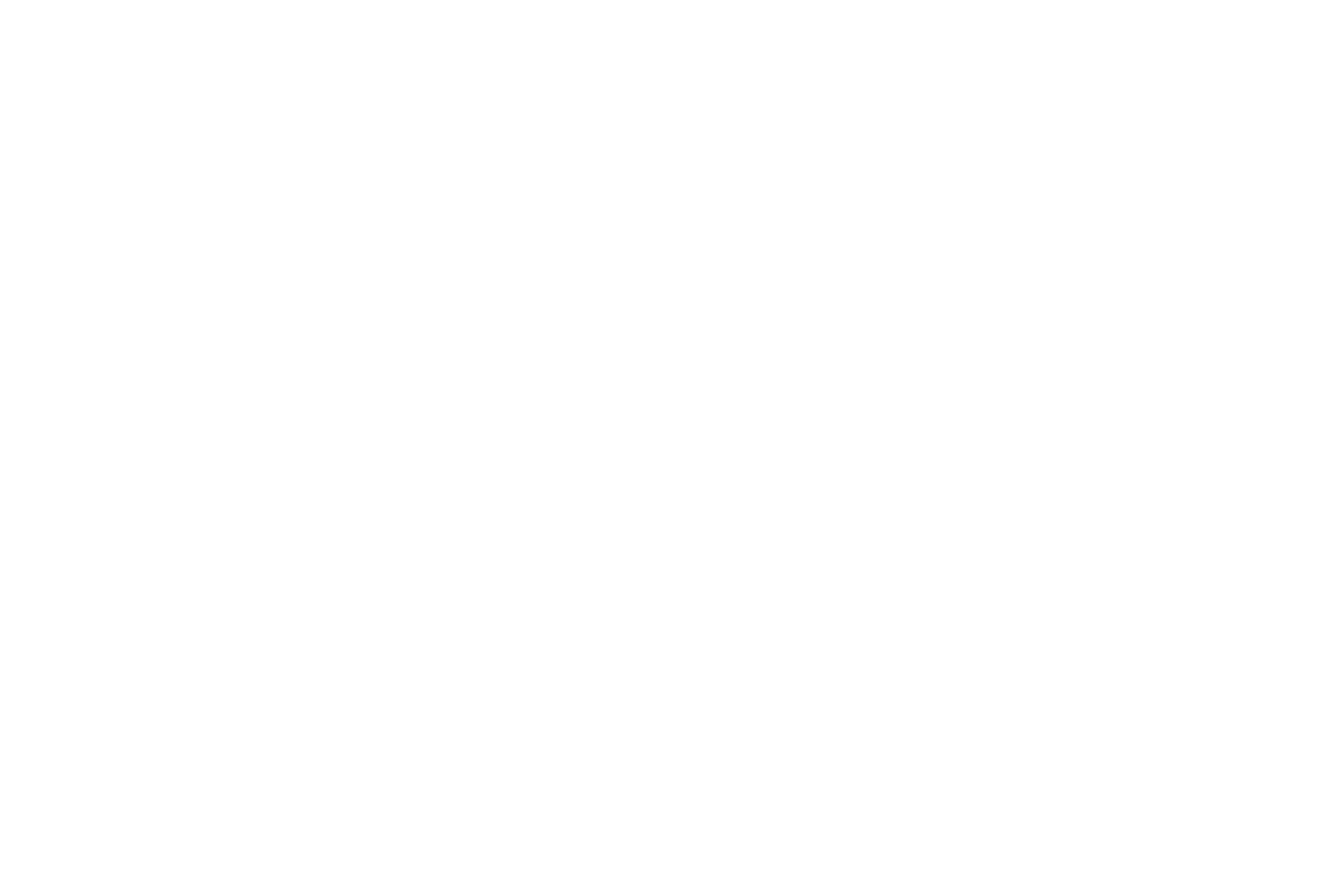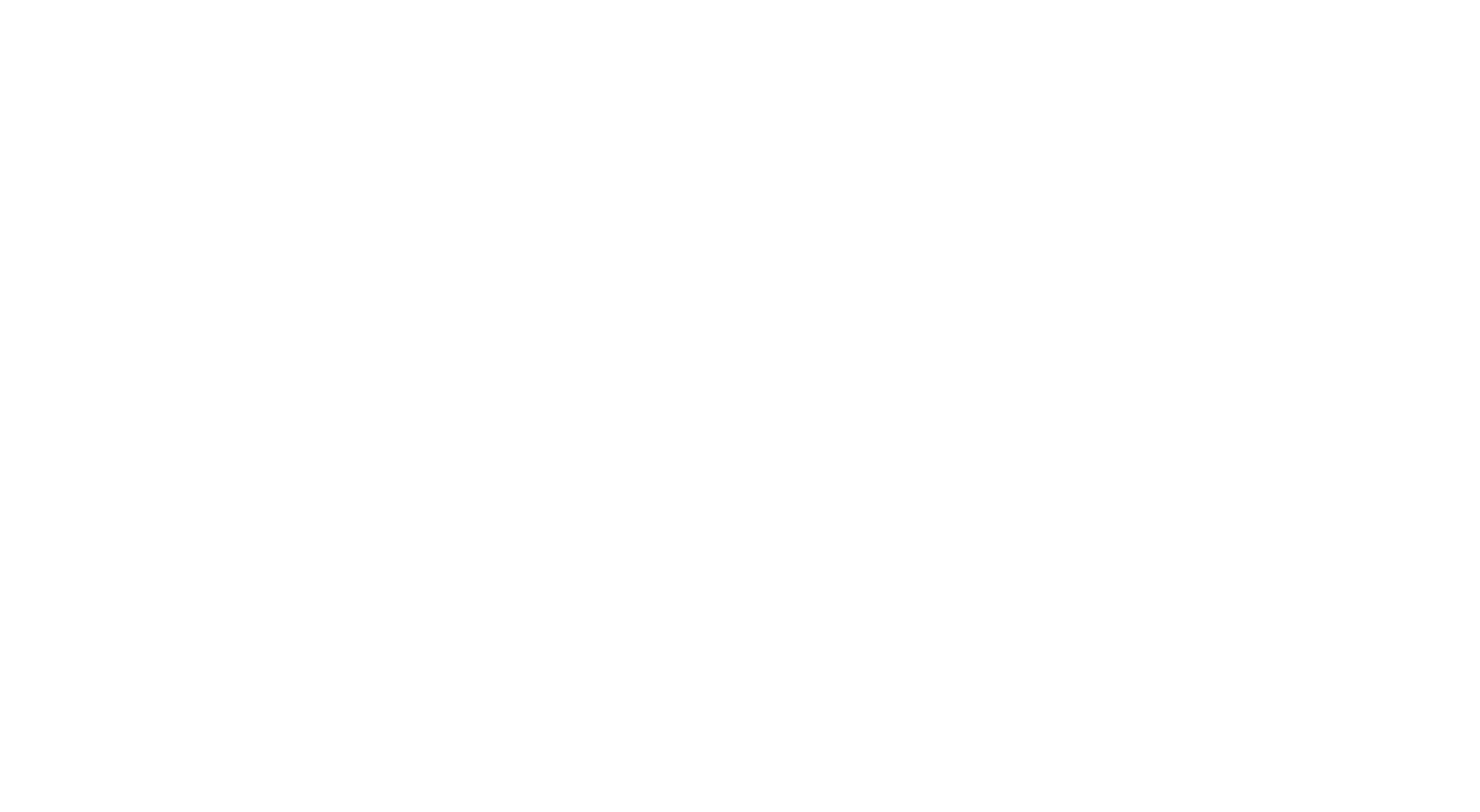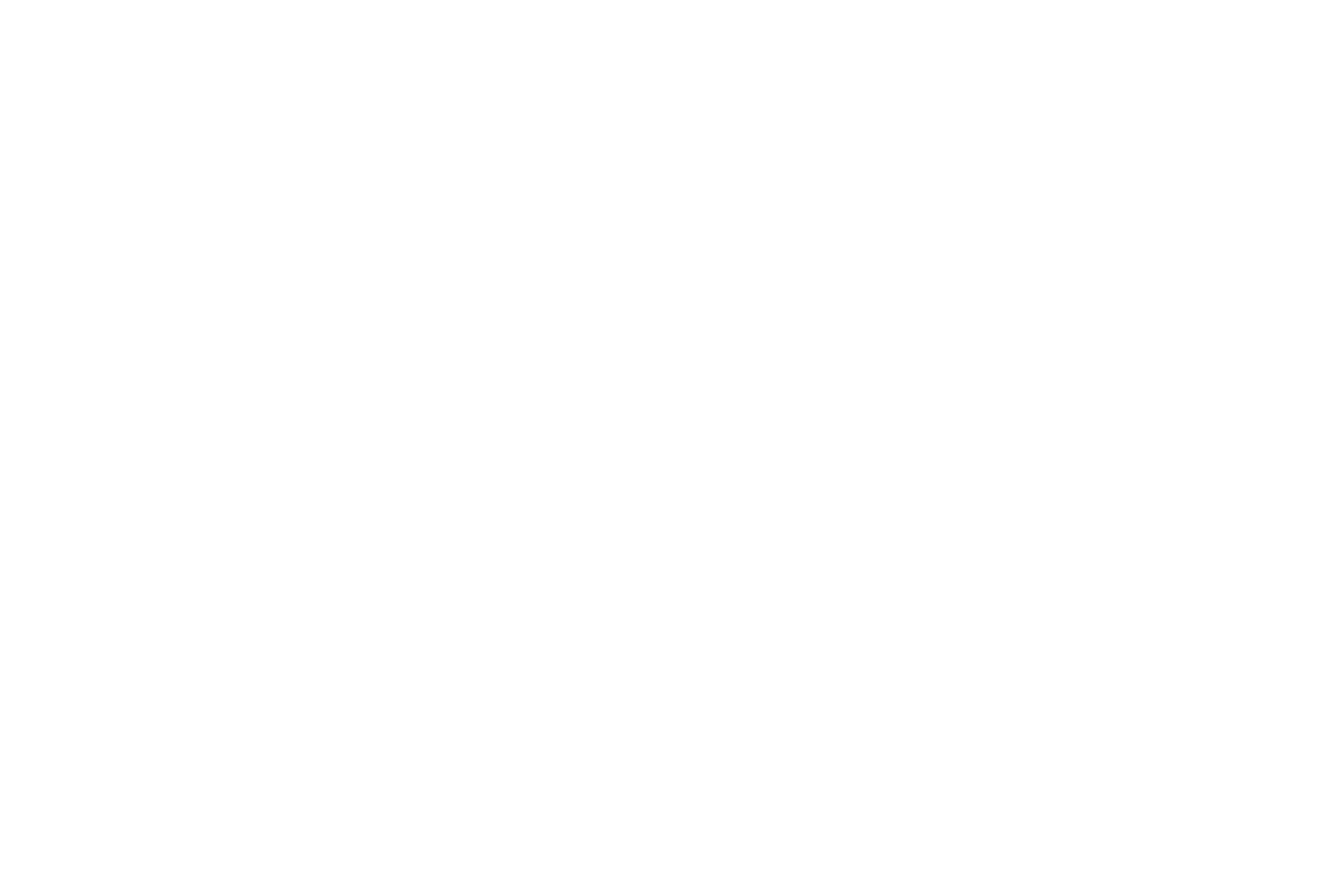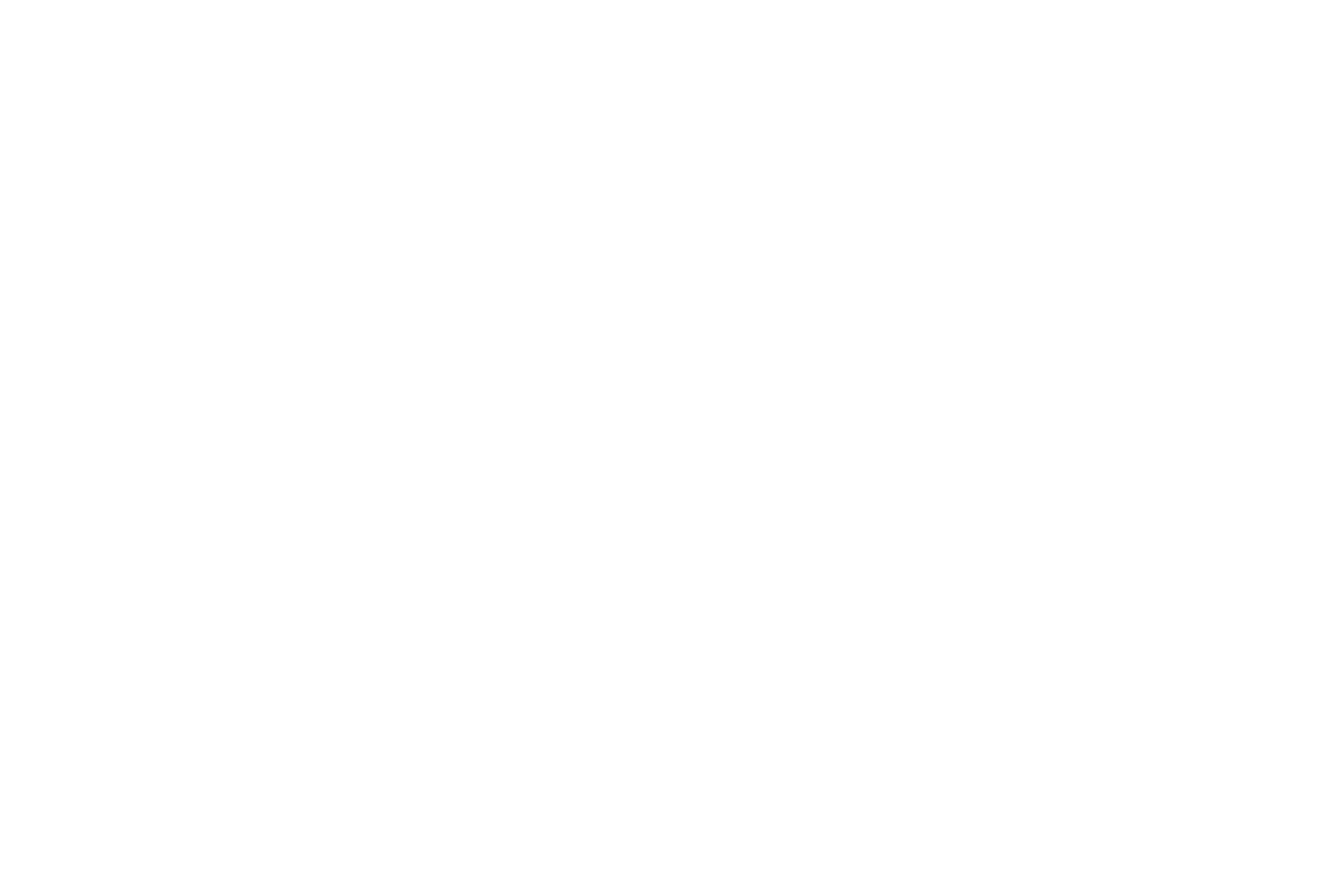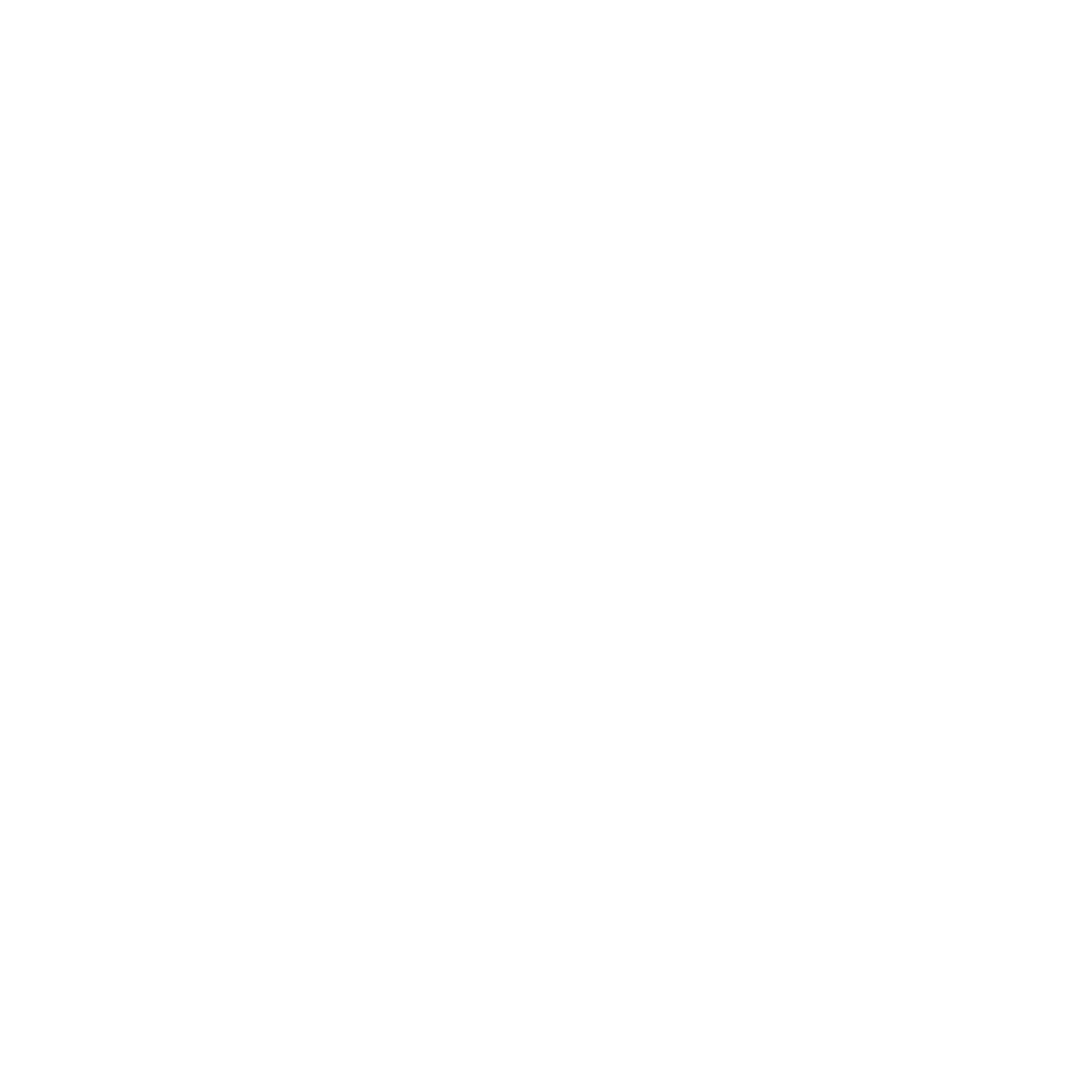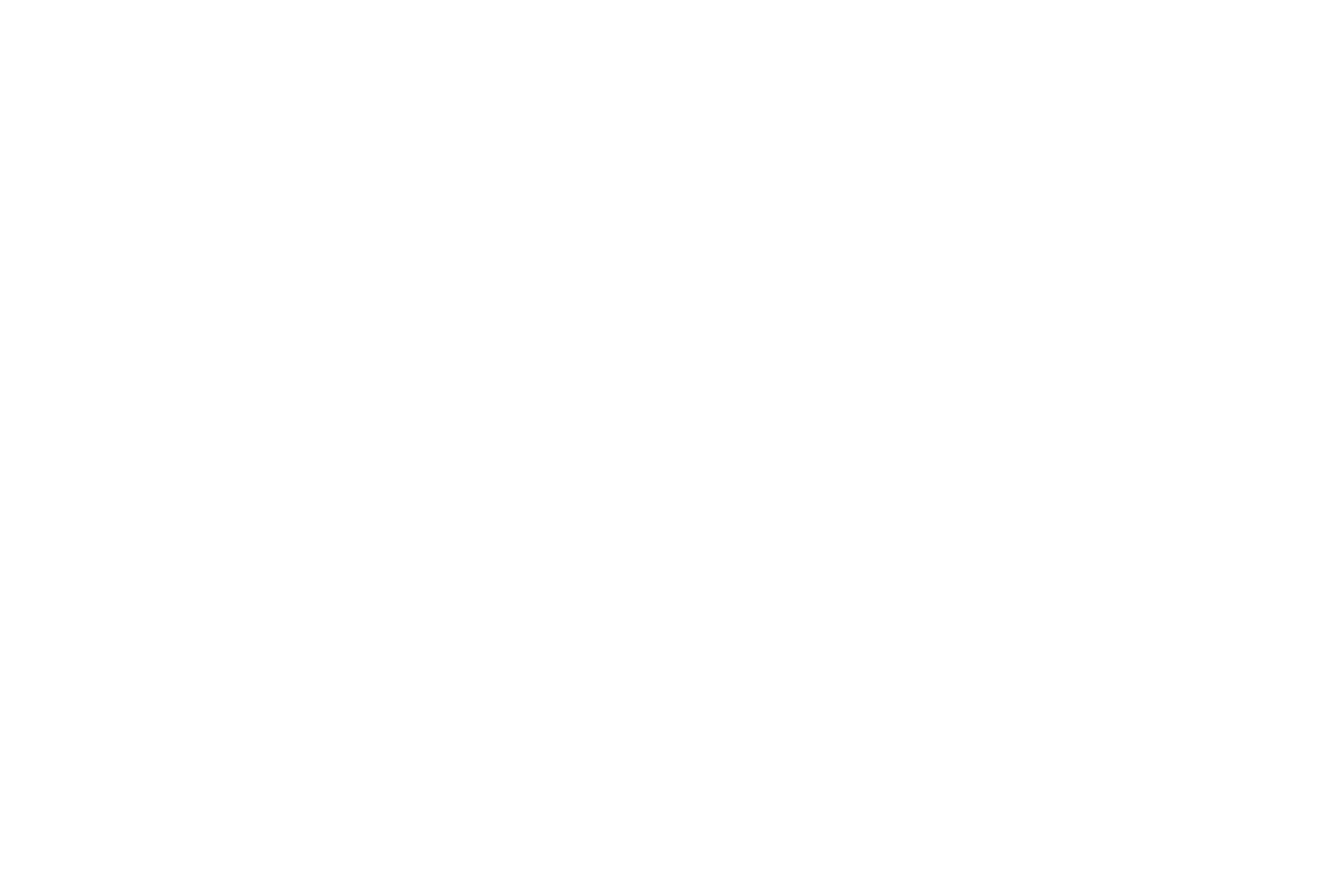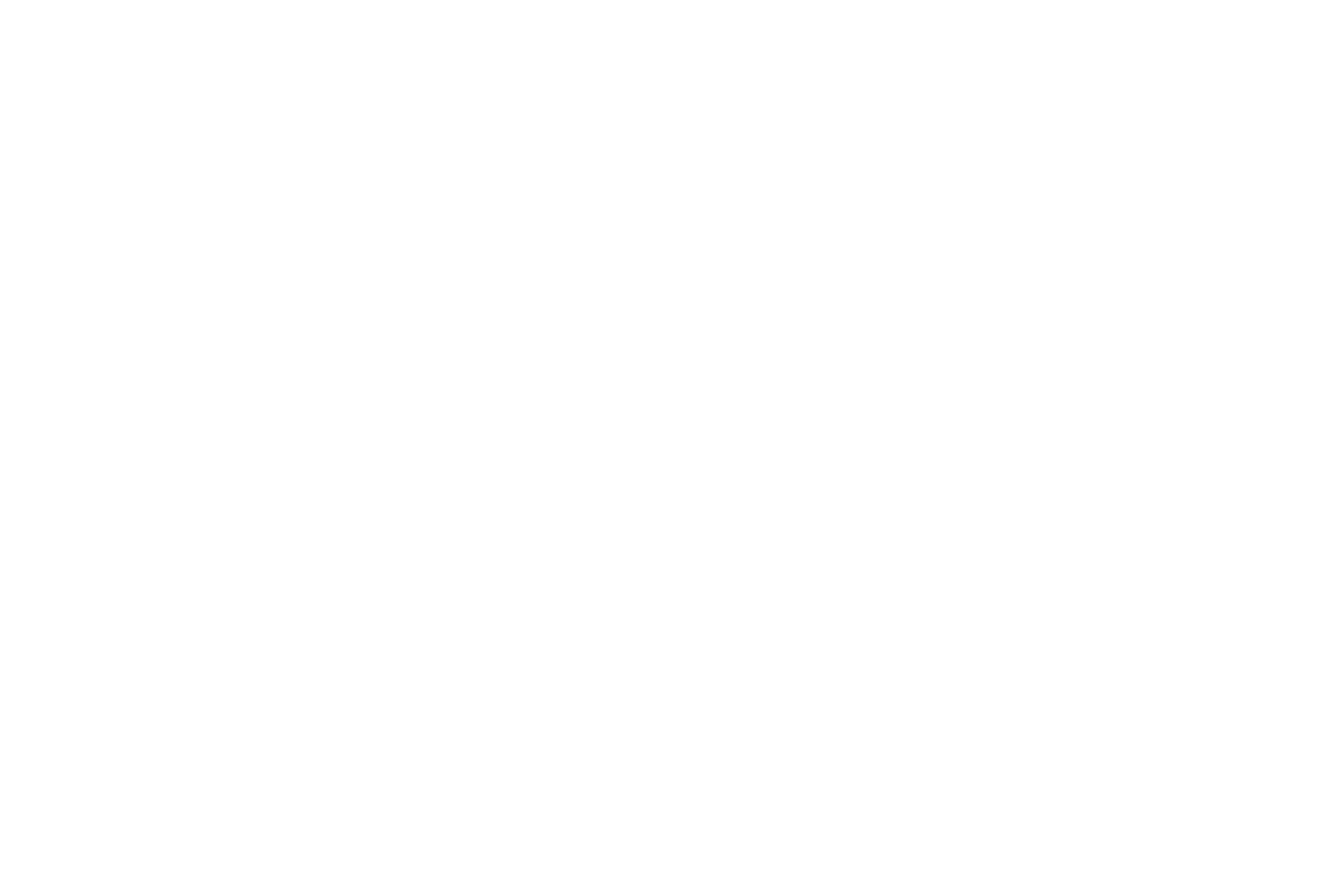Итоги конференции
Вы можете посмотреть фото-репортаж с Первой конференции по христианской психологии.
Фотограф Борис Геер
Фотограф Борис Геер
Мы бережем изначальную установку — возвращать психологии её главный предмет, душу, — и делать это профессионально.
«Наука движется школами», — прозвучало в приветствии со сцены, и трудно подобрать более точную интонацию для сегодняшнего дня: школа — это всегда 7±2 человека, начавших с разговора и оставшихся в деле на годы; это сеть отношений, разногласий, встреч и совместных решений, без которых «науки нет» и «толку от неё никакого» — потому что нет жизни. Так начиналась история: три собеседника на факультете психологии, первый семинар «Психология и религия», переполненные аудитории, вынесенные столы и чувство, что «мы уже победили, неважно как пройдёт семинар» — потому что нерв времени пойман верно.
Так 35 лет назад совпали освобождающее дух Время перестройки, символически насыщенное Место университетских залов, Люди — представители науки, Церкви и студенческой среды — и Действие, воплотившееся в регулярных семинарах, лаборатории и учебных программах нового типа.
Прошло более трёх десятилетий, и в 2025 году проведение конференции вновь стало моментом, в котором соединились эти же фундаментальные координаты событийного бытия. Современное Время — когда честно говорим: «мы — в точке взрослости». Это не бравурная самооценка, а ответственность — то самое «ответ» в слове «ответственность», где остаётся выяснить, кто спрашивает. И нас действительно спрашивают разные Люди — академия, церковная среда, практикующие психологи, родители и учителя, молодые специалисты и те, кто приходит за помощью. Место — это площадка, организованная Московской школой христианской психологии, которая включает представителей Факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Института психологии имени Л.С. Выготского РГГУ, Психологического центра Наталии Ининой, АНО «Научно-практического института психологии личности» и многих других организаций.
И главное — Действие — мы бережем изначальную установку — возвращать психологии её главный предмет, душу, — и делать это профессионально. Психологическое знание нельзя заменить ни богословием, ни проповедью. Это самостоятельная, незаменимая область, требующая глубокого профессионализма, понимания внутренней сложности психического мира и уважения к его законам.
Именно внимание к «микроскопическим» аспектам человеческого развития — будь то детская игра, навыки ориентации в пространстве или работа с родителями — позволяет специалистам находить конкретные решения там, где общие нравственные принципы оказываются недостаточными. Христианский психолог, оставаясь верующим и опираясь на духовные основания, должен обладать профессиональными знаниями, чтобы быть тем самым «специалистом», который понимает устройство внутреннего мира человека.
Именно поэтому христианская психология занимает уникальное место — как звено, соединяющее земное и духовное. Конференция ясно показала: будущее этой науки определяется не только верой и убеждениями, но и готовностью профессионально, ответственно и глубоко изучать психическую реальность, служа человеку во всей полноте его бытия.
Ниже вы найдете краткое изложение выступлений всех докладчиков конференции.
Пожалуйста, нажимайте на текст и будет выпадать содержание.
Так 35 лет назад совпали освобождающее дух Время перестройки, символически насыщенное Место университетских залов, Люди — представители науки, Церкви и студенческой среды — и Действие, воплотившееся в регулярных семинарах, лаборатории и учебных программах нового типа.
Прошло более трёх десятилетий, и в 2025 году проведение конференции вновь стало моментом, в котором соединились эти же фундаментальные координаты событийного бытия. Современное Время — когда честно говорим: «мы — в точке взрослости». Это не бравурная самооценка, а ответственность — то самое «ответ» в слове «ответственность», где остаётся выяснить, кто спрашивает. И нас действительно спрашивают разные Люди — академия, церковная среда, практикующие психологи, родители и учителя, молодые специалисты и те, кто приходит за помощью. Место — это площадка, организованная Московской школой христианской психологии, которая включает представителей Факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Института психологии имени Л.С. Выготского РГГУ, Психологического центра Наталии Ининой, АНО «Научно-практического института психологии личности» и многих других организаций.
И главное — Действие — мы бережем изначальную установку — возвращать психологии её главный предмет, душу, — и делать это профессионально. Психологическое знание нельзя заменить ни богословием, ни проповедью. Это самостоятельная, незаменимая область, требующая глубокого профессионализма, понимания внутренней сложности психического мира и уважения к его законам.
Именно внимание к «микроскопическим» аспектам человеческого развития — будь то детская игра, навыки ориентации в пространстве или работа с родителями — позволяет специалистам находить конкретные решения там, где общие нравственные принципы оказываются недостаточными. Христианский психолог, оставаясь верующим и опираясь на духовные основания, должен обладать профессиональными знаниями, чтобы быть тем самым «специалистом», который понимает устройство внутреннего мира человека.
Именно поэтому христианская психология занимает уникальное место — как звено, соединяющее земное и духовное. Конференция ясно показала: будущее этой науки определяется не только верой и убеждениями, но и готовностью профессионально, ответственно и глубоко изучать психическую реальность, служа человеку во всей полноте его бытия.
Ниже вы найдете краткое изложение выступлений всех докладчиков конференции.
Пожалуйста, нажимайте на текст и будет выпадать содержание.
Часть 1 - Основания и рамка: где стоит христианская психология сегодня
Исток как ориентир, а не музей: от Феофана Затворника к университетской аудитории (Дарья Зайцева)
Первая программная панорама — доклад Дарьи Александровны Зайцевой — задала ритм всего дня. Не случайно на титульном слайде — икона святителя Феофана Затворника: для нас «христианская психология» — не модный ярлык, а традиция, где психика понимается как инструмент души, а цель — «познание души, определение значения человека и его способностей», чтобы увидеть замысел о человеке и место этих способностей в жизни.
Из этого истока вместе с университетским принципом о том, что фундаментальное знание — это основа профессионализма, вытекают конкретные формы. Сегодня Московская школа христианской психологии — это и образовательные программы бакалавриата и магистратуры (первая в стране профильная магистратура по христианской психологии), и дополнительное образование, и консультативные центры, и «длинные» научные линии — от ежегодного «Вестника христианской психологии» до международных конференций и семинариев имени прот. Василия Зеньковского. География — от Гамбурга до Якутска; аудитории — от духовных академий до инклюзивных классов; формат — от мастерских «Внутренний ребёнок» до психологического театра и онлайн-клубов поддержки. Есть признание сообщества — от «Золотой психеи» до новых званий наших учителей.
Если первый шаг — назвать свой исток, то второй — очертить границы поля, где мы действуем. И здесь нам важен не только церковный язык смысла, но и научный язык различений.
Между антагонизмом и диалогом: постановка рамки (Наталия Инина)
В своём докладе Наталия Владимировна Инина предложила «карту встречных опасностей». С одной стороны — редукции светской практической психологии: когда духовные практики заимствуются как техники, метафизика — «обнуляется», а потребность смысла сводится к неврозу. С другой — церковная «борьба с психологией», когда душевное упраздняется в пользу прямых духовных предписаний («Так Бог хотел»), и тем самым теряется различение уровней. Обе крайности зеркальны: одни «борются с небом», другие — «с землёй». Поле христианской психологии — между ними: оно требует вернуть в психологию язык души, а в церковном сознании — признать роль психики и дифференцировать психологическое и духовное. Здесь нормативная формула звучит просто и строго: «Но не прежде, – говорит, – духовное, но душевное, потом же духовное» (1Кор.15:46). То есть восстановить иерархию, где личность владеет силами души, а психика обретает своё место как средство, а не цель.
В терминах вопросов психологических школ это можно свести к смещению фокуса: от «почему?» (психоанализ) и «как?» (когнитивно-бихевиоральные модели) через «кто?» (гуманистическая психология) и «в чём смысл?» (экзистенциальная психология) — к вопросу «во имя Кого?», где истина — это Личность, а не вещь или метод. Отсюда — иная цель психологической помощи: не только снятие симптома, но создание условий для спасения как предельного горизонта субъектности.
Но даже выстроив рамку, мы остаёмся у входа в главное: кто тот человек, которому адресована психологическая помощь и церковное слово — и как сходятся в нём «земля» и «небо»?
Личность как пересечение: душевное растёт в духовное (Надежда Храмова)
Надежда Григорьевна Храмова предлагает антропологию, в которой личность собирает воедино телесное, душевное и духовное. Психологически это этапы и статусы (индивид, субъект, индивидуум, общинник, самость), духовно — горизонты (индивидуальность, уникальность, универсальность, евхаристичность). Парадокс в том, что личность «дана» как образ — и одновременно задаётся как путь. Эмоции здесь — не «мелочь» психики, а мост: они первыми прокладывают каналы переживания, через которые личность «доходит» до добродетелей. Радость — к литургическому восторгу, стыд — к покаянию, страх — к «божественному страху», интерес — к богопознанию, гнев — к праведному гневу. Но если базовые эмоции искажены — радость заменена завистью, вина — самоедством, печаль — унынием, — то духовный путь становится либо невозможным, либо опасным: «хрупкая психика» не вынесет аскетических нагрузок, описанных у отцов. Отсюда профессиональный вывод: сначала — психологическое оздоровление и работа с эмоциями, контейнирование и иерархия чувств; затем — восхождение к духовному. «Не духовное прежде…» — и это не компромисс, а условие подлинности.
Далее нам предстоит ответить на вопрос — на каких философских основаниях может строиться вектор помощи. Ответ предлагает христианская психология.
Философско-экзистенциальный ракурс (Алексей Лызлов)
Философ и психолог Алексей Лызлов предложил обратиться к наследию датского мыслителя Сёрена Кьеркегора, одного из первых, кто сформулировал основания христианской психологии.
Кьеркегор болезненно переживал подмену христианских принципов полноты жизни утешительным мировоззрением, обещающим комфортную жизнь. Он настаивал, что подлинная христианская жизнь не может быть без креста — без жертвы, любви и выхода за пределы самодовольного существования.
Для психологии это принципиально важно: традиционно психолог стремится вернуть человека к состоянию благополучия, снизить тревогу и страдание. Однако христианская психология, следуя Кьеркегору, должна учитывать, что путь любви и свободы не сводится к комфорту. Человек призван не только справиться с болью, но и ответить на вызов быть собой — выйти из обезличенности и жить «от первого лица».
Кьеркегор выделял три стадии существования: эстетическую (жизнь в желаниях и удовольствиях), этическую (жизнь по закону и принципам) и религиозную (личная встреча с Богом). Переход между ними — не механическое развитие, а внутренний прыжок, экзистенциальный выбор. Психолог, работающий с человеком, должен понимать, на какой стадии тот находится, и не пытаться искусственно перескочить через этапы.
Кроме того, Киркегор подчёркивал важность личной затронутости: мы становимся самими собой тогда, когда другой человек действительно касается нас, вызывает личный ответ.
Развитие воли и произвольности (Геннадий Кравцов и Людмила Кожарина)
В докладе они обратились к культурно-историческому подходу Льва Выготского, исследуя проблему воли у детей дошкольного возраста.
В психологии существует два основных направления в объяснении воли: гетерономное — сводящее волевые акты к другим психическим процессам, и автономное, рассматривающее волю как самостоятельное и не сводимое явление. Выготский критиковал обе линии за неполноту и предложил рассматривать волю через развитие произвольного поведения — способность ребёнка следовать правилам, осознанно перестраивать свои действия, отделять себя от ситуации и действовать по внутренним ориентирам.
Кравцов и Кожарина провели масштабное исследование детей от трёх до семи лет, используя игровые методики для диагностики произвольного и волевого поведения. Они показали, что воля и произвольность — процессы однонаправленные, но воля развивается раньше и задаёт основу для произвольного контроля. Именно в среднем дошкольном возрасте у детей появляется осмысленность и инициативность — первые ростки настоящего волевого действия.
Формирующий эксперимент, проведённый с детьми, у которых наблюдалось отставание, показал, что целенаправленная работа с волевой сферой способствует росту произвольности. Эти результаты не только уточняют идеи Выготского, но и открывают путь для интеграции культурно-исторического подхода с христианской психологией.
Докладчики подчеркнули, что понятия личности, свободы, совести и воли, лежащие в основе культурно-исторической теории, по сути, восходят к христианским представлениям о человеке. Таким образом, культурно-историческая психология может быть понята как психология будущего — мост между научным исследованием и духовным пониманием личности.
Терапия как встреча личностей (Филип Мамалакис)
Филип Мамалакис, преподаватель пастырского попечения в Греческой православной богословской школе Святого Креста (США), сосредоточил внимание на сущности психотерапевтической встречи. Он подчеркнул, что в основе любой эффективной терапии лежит не техника и не выбранная теоретическая школа, а подлинная человеческая встреча. Исследования показывают: какой бы подход ни использовался, успех терапии во многом зависит от характера отношений между клиентом и терапевтом.
Мамалакис предлагает рассматривать психотерапию сквозь призму православной литургической традиции. В литургии человек встречается с Богом через взаимную самоотдачу — личную, уязвимую, открытую. Подобным образом, по его мнению, терапия становится исцеляющей тогда, когда терапевт не просто «применяет методы», а лично предлагает себя в отношениях с клиентом. Именно в этой взаимной открытости, напоминающей литургическую встречу, рождается пространство исцеления.
Терапевт, отдающий себя, приглашает клиента раскрыться — поделиться своей болью, растерянностью, одиночеством. Когда клиент принимает это приглашение, происходит подлинное изменение, которое не сводится ни к технике, ни к когнитивному пониманию. Мамалакис видит в этом отражение христианского образа любви — самоотдачи Христа ради жизни мира. Так, терапевтическая комната становится местом встречи, где проявляются универсальные духовные закономерности, действующие независимо от конфессиональной принадлежности.
В завершении своего выступления Филипп Мамалакис поставил ключевой вопрос: существует ли христианская психотерапия как нечто принципиально отличное от «обычной»? Его ответ парадоксален и глубоко богословски обоснован. Если утверждать, что христианская терапия — это отдельная, замкнутая область, применимая лишь к верующим, то тем самым мы фактически отрицаем универсальность Божьих способов исцеления, действующих во всём мире. Православное понимание Бога как Творца и Подателя жизни не допускает «нейтральных зон», не пронизанных Его присутствием. Психотерапия становится христианской не потому, что в ней используются особые методы, а потому что в её сердце — та же самоотдающая любовь, которую Церковь переживает в литургии. Крещёный терапевт предлагает себя клиенту как бы ради Господа, вне зависимости от веры собеседника. Различные психологические теории могут в разной степени совпадать с этими божественными паттернами, но само исцеление всегда превосходит любую теорию. Оно происходит там, где встречаются две личности и открываются друг другу. Именно поэтому разговор о христианской психотерапии — не о противопоставлении, а о распознавании и углублении тех универсальных закономерностей, которые Бог вписал в человеческое бытие.
Первая программная панорама — доклад Дарьи Александровны Зайцевой — задала ритм всего дня. Не случайно на титульном слайде — икона святителя Феофана Затворника: для нас «христианская психология» — не модный ярлык, а традиция, где психика понимается как инструмент души, а цель — «познание души, определение значения человека и его способностей», чтобы увидеть замысел о человеке и место этих способностей в жизни.
Из этого истока вместе с университетским принципом о том, что фундаментальное знание — это основа профессионализма, вытекают конкретные формы. Сегодня Московская школа христианской психологии — это и образовательные программы бакалавриата и магистратуры (первая в стране профильная магистратура по христианской психологии), и дополнительное образование, и консультативные центры, и «длинные» научные линии — от ежегодного «Вестника христианской психологии» до международных конференций и семинариев имени прот. Василия Зеньковского. География — от Гамбурга до Якутска; аудитории — от духовных академий до инклюзивных классов; формат — от мастерских «Внутренний ребёнок» до психологического театра и онлайн-клубов поддержки. Есть признание сообщества — от «Золотой психеи» до новых званий наших учителей.
Если первый шаг — назвать свой исток, то второй — очертить границы поля, где мы действуем. И здесь нам важен не только церковный язык смысла, но и научный язык различений.
Между антагонизмом и диалогом: постановка рамки (Наталия Инина)
В своём докладе Наталия Владимировна Инина предложила «карту встречных опасностей». С одной стороны — редукции светской практической психологии: когда духовные практики заимствуются как техники, метафизика — «обнуляется», а потребность смысла сводится к неврозу. С другой — церковная «борьба с психологией», когда душевное упраздняется в пользу прямых духовных предписаний («Так Бог хотел»), и тем самым теряется различение уровней. Обе крайности зеркальны: одни «борются с небом», другие — «с землёй». Поле христианской психологии — между ними: оно требует вернуть в психологию язык души, а в церковном сознании — признать роль психики и дифференцировать психологическое и духовное. Здесь нормативная формула звучит просто и строго: «Но не прежде, – говорит, – духовное, но душевное, потом же духовное» (1Кор.15:46). То есть восстановить иерархию, где личность владеет силами души, а психика обретает своё место как средство, а не цель.
В терминах вопросов психологических школ это можно свести к смещению фокуса: от «почему?» (психоанализ) и «как?» (когнитивно-бихевиоральные модели) через «кто?» (гуманистическая психология) и «в чём смысл?» (экзистенциальная психология) — к вопросу «во имя Кого?», где истина — это Личность, а не вещь или метод. Отсюда — иная цель психологической помощи: не только снятие симптома, но создание условий для спасения как предельного горизонта субъектности.
Но даже выстроив рамку, мы остаёмся у входа в главное: кто тот человек, которому адресована психологическая помощь и церковное слово — и как сходятся в нём «земля» и «небо»?
Личность как пересечение: душевное растёт в духовное (Надежда Храмова)
Надежда Григорьевна Храмова предлагает антропологию, в которой личность собирает воедино телесное, душевное и духовное. Психологически это этапы и статусы (индивид, субъект, индивидуум, общинник, самость), духовно — горизонты (индивидуальность, уникальность, универсальность, евхаристичность). Парадокс в том, что личность «дана» как образ — и одновременно задаётся как путь. Эмоции здесь — не «мелочь» психики, а мост: они первыми прокладывают каналы переживания, через которые личность «доходит» до добродетелей. Радость — к литургическому восторгу, стыд — к покаянию, страх — к «божественному страху», интерес — к богопознанию, гнев — к праведному гневу. Но если базовые эмоции искажены — радость заменена завистью, вина — самоедством, печаль — унынием, — то духовный путь становится либо невозможным, либо опасным: «хрупкая психика» не вынесет аскетических нагрузок, описанных у отцов. Отсюда профессиональный вывод: сначала — психологическое оздоровление и работа с эмоциями, контейнирование и иерархия чувств; затем — восхождение к духовному. «Не духовное прежде…» — и это не компромисс, а условие подлинности.
Далее нам предстоит ответить на вопрос — на каких философских основаниях может строиться вектор помощи. Ответ предлагает христианская психология.
Философско-экзистенциальный ракурс (Алексей Лызлов)
Философ и психолог Алексей Лызлов предложил обратиться к наследию датского мыслителя Сёрена Кьеркегора, одного из первых, кто сформулировал основания христианской психологии.
Кьеркегор болезненно переживал подмену христианских принципов полноты жизни утешительным мировоззрением, обещающим комфортную жизнь. Он настаивал, что подлинная христианская жизнь не может быть без креста — без жертвы, любви и выхода за пределы самодовольного существования.
Для психологии это принципиально важно: традиционно психолог стремится вернуть человека к состоянию благополучия, снизить тревогу и страдание. Однако христианская психология, следуя Кьеркегору, должна учитывать, что путь любви и свободы не сводится к комфорту. Человек призван не только справиться с болью, но и ответить на вызов быть собой — выйти из обезличенности и жить «от первого лица».
Кьеркегор выделял три стадии существования: эстетическую (жизнь в желаниях и удовольствиях), этическую (жизнь по закону и принципам) и религиозную (личная встреча с Богом). Переход между ними — не механическое развитие, а внутренний прыжок, экзистенциальный выбор. Психолог, работающий с человеком, должен понимать, на какой стадии тот находится, и не пытаться искусственно перескочить через этапы.
Кроме того, Киркегор подчёркивал важность личной затронутости: мы становимся самими собой тогда, когда другой человек действительно касается нас, вызывает личный ответ.
Развитие воли и произвольности (Геннадий Кравцов и Людмила Кожарина)
В докладе они обратились к культурно-историческому подходу Льва Выготского, исследуя проблему воли у детей дошкольного возраста.
В психологии существует два основных направления в объяснении воли: гетерономное — сводящее волевые акты к другим психическим процессам, и автономное, рассматривающее волю как самостоятельное и не сводимое явление. Выготский критиковал обе линии за неполноту и предложил рассматривать волю через развитие произвольного поведения — способность ребёнка следовать правилам, осознанно перестраивать свои действия, отделять себя от ситуации и действовать по внутренним ориентирам.
Кравцов и Кожарина провели масштабное исследование детей от трёх до семи лет, используя игровые методики для диагностики произвольного и волевого поведения. Они показали, что воля и произвольность — процессы однонаправленные, но воля развивается раньше и задаёт основу для произвольного контроля. Именно в среднем дошкольном возрасте у детей появляется осмысленность и инициативность — первые ростки настоящего волевого действия.
Формирующий эксперимент, проведённый с детьми, у которых наблюдалось отставание, показал, что целенаправленная работа с волевой сферой способствует росту произвольности. Эти результаты не только уточняют идеи Выготского, но и открывают путь для интеграции культурно-исторического подхода с христианской психологией.
Докладчики подчеркнули, что понятия личности, свободы, совести и воли, лежащие в основе культурно-исторической теории, по сути, восходят к христианским представлениям о человеке. Таким образом, культурно-историческая психология может быть понята как психология будущего — мост между научным исследованием и духовным пониманием личности.
Терапия как встреча личностей (Филип Мамалакис)
Филип Мамалакис, преподаватель пастырского попечения в Греческой православной богословской школе Святого Креста (США), сосредоточил внимание на сущности психотерапевтической встречи. Он подчеркнул, что в основе любой эффективной терапии лежит не техника и не выбранная теоретическая школа, а подлинная человеческая встреча. Исследования показывают: какой бы подход ни использовался, успех терапии во многом зависит от характера отношений между клиентом и терапевтом.
Мамалакис предлагает рассматривать психотерапию сквозь призму православной литургической традиции. В литургии человек встречается с Богом через взаимную самоотдачу — личную, уязвимую, открытую. Подобным образом, по его мнению, терапия становится исцеляющей тогда, когда терапевт не просто «применяет методы», а лично предлагает себя в отношениях с клиентом. Именно в этой взаимной открытости, напоминающей литургическую встречу, рождается пространство исцеления.
Терапевт, отдающий себя, приглашает клиента раскрыться — поделиться своей болью, растерянностью, одиночеством. Когда клиент принимает это приглашение, происходит подлинное изменение, которое не сводится ни к технике, ни к когнитивному пониманию. Мамалакис видит в этом отражение христианского образа любви — самоотдачи Христа ради жизни мира. Так, терапевтическая комната становится местом встречи, где проявляются универсальные духовные закономерности, действующие независимо от конфессиональной принадлежности.
В завершении своего выступления Филипп Мамалакис поставил ключевой вопрос: существует ли христианская психотерапия как нечто принципиально отличное от «обычной»? Его ответ парадоксален и глубоко богословски обоснован. Если утверждать, что христианская терапия — это отдельная, замкнутая область, применимая лишь к верующим, то тем самым мы фактически отрицаем универсальность Божьих способов исцеления, действующих во всём мире. Православное понимание Бога как Творца и Подателя жизни не допускает «нейтральных зон», не пронизанных Его присутствием. Психотерапия становится христианской не потому, что в ней используются особые методы, а потому что в её сердце — та же самоотдающая любовь, которую Церковь переживает в литургии. Крещёный терапевт предлагает себя клиенту как бы ради Господа, вне зависимости от веры собеседника. Различные психологические теории могут в разной степени совпадать с этими божественными паттернами, но само исцеление всегда превосходит любую теорию. Оно происходит там, где встречаются две личности и открываются друг другу. Именно поэтому разговор о христианской психотерапии — не о противопоставлении, а о распознавании и углублении тех универсальных закономерностей, которые Бог вписал в человеческое бытие.
Часть 2 - Внутренние механизмы человеческой души
Работа с травмой как устранение препятствий на пути духовного развития (Елена Левина)
Вторая часть конференции началась с доклада, который сместил оптику обсуждения — с институциональных рамок и философских оснований на внутренние механизмы человеческой души. Елена Витальевна Левина, опираясь на свой опыт соведущей психологических мастерских «Испытание детством», задала тон разговору, обращенному к самым ранним, порой почти неосознаваемым пластам психического опыта. Тема её выступления — работа с травмой как устранение препятствий на пути духовного развития. Этот на первый взгляд «прикладной кейс» на самом деле показывает целую онтологическую линию того, как психология и богословие не противопоставляются, а смотрят в одном направлении: к восстановлению целостного образа человека.
Левина начала с ключевого для христианской психологии тезиса: духовное развитие — это не борьба с внешними грехами, а обнаружение в себе того, что «Божие», по слову митрополита Антония Сурожского. Травма, особенно детская, по ее словам, — это не просто психический шрам, а изменение внутренней реальности, «ложная система координат», которая искажает восприятие мира, Бога, других и самого себя. Именно здесь христианская психология опирается не на порой абстрактные проповеди, а на конкретные методы: от концепции целостности и эффекта незавершенного действия Курта Левина до зон ближайшего развития Выготского и принципа растождествления Ассаджоли. Но — и это ключевой момент — все эти методы рассматриваются «через призму вертикали»: не как способы приспособиться к миру, а как пути к Богу.
Слушая её доклад, в аудитории чувствовалась редкая сосредоточенность. Левина словно дала всем общий язык для разговора о том, что обычно скрыто в полумраке личного опыта: детская уязвимость, искаженные образы, разрыв между «внутренним ребёнком» и взрослым «я». Этот язык стал основой для следующего выступления, которое развернуло тему травмы и кризиса с другой стороны — со стороны болезни и переживания предельных жизненных событий.
Болезнь как духовное испытание (Аркадий Харьковский)
Аркадий Николаевич Харьковский, много лет работавший с тяжело больными детьми, говорил негромко и очень лично. Его доклад не был декларацией — это была медленная, вдумчивая работа с понятиями, в которой звучал личный опыт, изложенный также в книге «Дитя и болезнь». Болезнь, по его словам, — это не только физиологический сбой, но событие, требующее ответа со стороны личности. В отличие от автоматических реакций отрицания и вытеснения, принятие болезни — это поступок, акт, в котором человек формулирует свою авторскую позицию.
Харьковский показал, что кризис всегда двунаправлен: он связывает прошлое и будущее, обнажая противоречия и заставляя человека искать язык личного ответа. В его анализе чувствовалось влияние классических стадий принятия, но он сразу оговорился: формальные схемы тут не работают. Принятие нельзя «назначить» как таблетку — это всегда уникальное переживание, которое возможно только в контексте отношений, диалога и сопереживания. И в этой точке его размышления естественно перетекли в следующее выступление, где тема кризиса была раскрыта через библейскую оптику.
Христианская психологическая практика в библейском контексте (Глеб Курский)
Священник и психолог Глеб Курский, чьё выступление не было запланировано заранее, вышел с импровизацией, которая оказалась одной из самых структурно насыщенных. Он предложил смотреть на психологическую практику в библейском контексте, используя понятие инициации. Курский напомнил классическую трёхчастную схему Арнольда ван Геннепа — прелиминарная фаза отделения, лиминарная фаза перехода и постлиминарная фаза обретения нового статуса — и показал, как она буквально пронизывает Писание: от исхода Адама и Евы до обращения апостола Павла.
Особое внимание он уделил лиминарной стадии — состоянию «между», когда старое уже утрачено, а новое ещё не обретено. Именно её он сопоставил с депрессией и унынием, о которых говорил Харьковский. Ученики Христа, оказавшиеся в «ночи неопределённости» между крестом и Пятидесятницей, — образ глубинного переходного состояния. Психотерапия, по мысли Курского, в этой перспективе — не столько лечение симптомов, сколько помощь в прохождении инициационных переходов, которые требуют решимости и встречи с трансцендентным.
При этом Курский подчеркнул, что переход не всегда совершается успешно: он может прерваться, застрять на промежуточной стадии или исказиться. Современная психологическая практика нередко ограничивается лишь частичным отделением клиента от прежнего состояния, оставляя его на «мостках посреди реки» без необходимого посредничества. Возникают формы так называемой «псевдоинициации» — впечатляющие снаружи, но не приводящие к подлинной внутренней трансформации. Человек может получить инсайт, пережить эмоциональный всплеск, но так и не перейти к новому качеству жизни. В библейских сюжетах аналогом этого служит отказ третьего раба из притчи о талантах вступить в рискованное испытание: избегая перехода, он теряет и старое, и не обретает нового. Таким образом, успешное завершение инициационного процесса требует не только внутренней готовности, но и компетентного сопровождения, а также реальной открытости к встрече с Тем, кто превосходит человеческие ресурсы.
О границах психологического подхода (Павел Великанов)
После трёх докладов, погружённых в психологию и экзегетику, следующее выступление стало своего рода «холодным душем» — не случайно сам докладчик предупредил, что его слова могут не всем понравиться. Протоиерей Павел Великанов
поднял тему психологизации — феномена, который, по его словам, сегодня становится новым культурным мифом. Великанов с иронией и точностью описал, как популярные психологические термины, техники и представления проникают в повседневность, превращаясь в своеобразные «пси-очки», через которые человек начинает смотреть на всё: на других, на мир, на Бога и на себя.
Используя метафору из Клайва Льюиса о взгляде великана, превращающем всё живое в прозрачную анатомию, он показал, как рационализирующий и отчуждённый взгляд психологии может «разъедать» пространство священного, сводя любовь — к физиологии, веру — к технике, а страдание — к набору диагнозов. Его анализ культурного «сэйфтизма», где безопасность возводится в абсолют, звучал как предупреждение: психологизация может стать не инструментом понимания и помощи, а защитным щитом, за которым человек прячется от настоящей жизни.
Условия применения психологических методик в практике христианского душепопечения (Иоанн Мыздриков)
Если Великанов говорил о массовых культурных процессах, то следующий доклад вновь вернул фокус к пастырской практике. Диакон Иоанн Мыздриков, психолог и супервизор, выступил с размышлениями о том, на каких условиях психологические методики могут быть органично применены в христианском душепопечении. Он обозначил три ключевых условия: ситуацию психологического общества, оптику депатологизации и принцип функциональности.
Ситуацию психологического общества он описал как новую культурную реальность, в которой психология стала самостоятельным языком самопонимания современного человека. Для миллионов людей термины из психологического лексикона — тревога, стресс, личные границы, выгорание, депрессия, кризис — превратились в повседневные категории описания себя и своей жизни. Священник, встречаясь с человеком, говорит с тем, кто уже мыслит в этих координатах. Попытки «очистить» человека от этого языка нередко воспринимаются им как отвержение. Поэтому задача пастыря — не заменить психологию богословием, а научиться переводить психологические категории в духовно-богословский контекст, сохраняя глубину опыта и открывая его духовное измерение. Это создаёт пространство для подлинного диалога, где вера и психология не противопоставляются, а сосуществуют.
Мыздриков особенно подробно остановился на депатологизации страдания — движении современной психотерапии, которое отказывается воспринимать боль как отклонение от нормы. В этом он увидел глубокое созвучие с христианской традицией: страдание — универсальная часть человеческого пути, не повод для стигматизации, а возможность раскрыть глубину человеческой зависимости от Бога и от других людей. Он показал, как пастырь, встречая человека, говорящего «на психологическом языке», может не отвергать, а переводить — сохраняя духовную глубину опыта.
Наконец, принцип функциональности описывает сдвиг от ярлыков и классификаций к процессуальному пониманию человеческого поведения: не «что это такое», а «зачем это нужно и как это работает». Один и тот же поступок может иметь разное значение в разных контекстах, и именно контекстное, функциональное мышление позволяет пастырю уйти от механических оценок и вступить в подлинное понимание человека. Оно открывает возможность использовать психологические методы (например, телесные или языковые практики) не ради теоретических оснований подходов, а ради их реальной пользы в конкретной ситуации — при этом не превращая пастыря в психолога.
Психология христианского света: К столетию книги С.Л. Франка «Смысл жизни» (Олег Валуев)
Последний в этом блоке доклад — слово Олега Сергеевича Валуева — стал своеобразным резонансом ко всем предыдущим. Он говорил о «телескопическом взгляде», о настроенных линзах, которые позволяют видеть свет, проходящий через окрашенное стекло человеческой души. Валуев связал психологию с вертикальным измерением: человек, по его словам, — «странное промежуточное существо», способное не только падать, но и карабкаться вверх. От метафор витражного стекла Антония Сурожского он перешёл к Бердяеву и Франку, показав, что разговор о психологии — это разговор о соединении времени и вечности, земли и неба, человеческого и божественного.
Его выступление стало точкой внутреннего собирания всей панорамы дня: от детских травм и личных кризисов — к опыту восхождения, к необходимости «практик ресакрализации», о которых говорил Маслоу. Валуев не давал готовых ответов, но предлагал язык, на котором психологи, богословы и практики могут говорить об одном и том же, стоя рядом и глядя не друг на друга, а в одну сторону — развития профессиональной Христианской психологии.
Вторая часть конференции началась с доклада, который сместил оптику обсуждения — с институциональных рамок и философских оснований на внутренние механизмы человеческой души. Елена Витальевна Левина, опираясь на свой опыт соведущей психологических мастерских «Испытание детством», задала тон разговору, обращенному к самым ранним, порой почти неосознаваемым пластам психического опыта. Тема её выступления — работа с травмой как устранение препятствий на пути духовного развития. Этот на первый взгляд «прикладной кейс» на самом деле показывает целую онтологическую линию того, как психология и богословие не противопоставляются, а смотрят в одном направлении: к восстановлению целостного образа человека.
Левина начала с ключевого для христианской психологии тезиса: духовное развитие — это не борьба с внешними грехами, а обнаружение в себе того, что «Божие», по слову митрополита Антония Сурожского. Травма, особенно детская, по ее словам, — это не просто психический шрам, а изменение внутренней реальности, «ложная система координат», которая искажает восприятие мира, Бога, других и самого себя. Именно здесь христианская психология опирается не на порой абстрактные проповеди, а на конкретные методы: от концепции целостности и эффекта незавершенного действия Курта Левина до зон ближайшего развития Выготского и принципа растождествления Ассаджоли. Но — и это ключевой момент — все эти методы рассматриваются «через призму вертикали»: не как способы приспособиться к миру, а как пути к Богу.
Слушая её доклад, в аудитории чувствовалась редкая сосредоточенность. Левина словно дала всем общий язык для разговора о том, что обычно скрыто в полумраке личного опыта: детская уязвимость, искаженные образы, разрыв между «внутренним ребёнком» и взрослым «я». Этот язык стал основой для следующего выступления, которое развернуло тему травмы и кризиса с другой стороны — со стороны болезни и переживания предельных жизненных событий.
Болезнь как духовное испытание (Аркадий Харьковский)
Аркадий Николаевич Харьковский, много лет работавший с тяжело больными детьми, говорил негромко и очень лично. Его доклад не был декларацией — это была медленная, вдумчивая работа с понятиями, в которой звучал личный опыт, изложенный также в книге «Дитя и болезнь». Болезнь, по его словам, — это не только физиологический сбой, но событие, требующее ответа со стороны личности. В отличие от автоматических реакций отрицания и вытеснения, принятие болезни — это поступок, акт, в котором человек формулирует свою авторскую позицию.
Харьковский показал, что кризис всегда двунаправлен: он связывает прошлое и будущее, обнажая противоречия и заставляя человека искать язык личного ответа. В его анализе чувствовалось влияние классических стадий принятия, но он сразу оговорился: формальные схемы тут не работают. Принятие нельзя «назначить» как таблетку — это всегда уникальное переживание, которое возможно только в контексте отношений, диалога и сопереживания. И в этой точке его размышления естественно перетекли в следующее выступление, где тема кризиса была раскрыта через библейскую оптику.
Христианская психологическая практика в библейском контексте (Глеб Курский)
Священник и психолог Глеб Курский, чьё выступление не было запланировано заранее, вышел с импровизацией, которая оказалась одной из самых структурно насыщенных. Он предложил смотреть на психологическую практику в библейском контексте, используя понятие инициации. Курский напомнил классическую трёхчастную схему Арнольда ван Геннепа — прелиминарная фаза отделения, лиминарная фаза перехода и постлиминарная фаза обретения нового статуса — и показал, как она буквально пронизывает Писание: от исхода Адама и Евы до обращения апостола Павла.
Особое внимание он уделил лиминарной стадии — состоянию «между», когда старое уже утрачено, а новое ещё не обретено. Именно её он сопоставил с депрессией и унынием, о которых говорил Харьковский. Ученики Христа, оказавшиеся в «ночи неопределённости» между крестом и Пятидесятницей, — образ глубинного переходного состояния. Психотерапия, по мысли Курского, в этой перспективе — не столько лечение симптомов, сколько помощь в прохождении инициационных переходов, которые требуют решимости и встречи с трансцендентным.
При этом Курский подчеркнул, что переход не всегда совершается успешно: он может прерваться, застрять на промежуточной стадии или исказиться. Современная психологическая практика нередко ограничивается лишь частичным отделением клиента от прежнего состояния, оставляя его на «мостках посреди реки» без необходимого посредничества. Возникают формы так называемой «псевдоинициации» — впечатляющие снаружи, но не приводящие к подлинной внутренней трансформации. Человек может получить инсайт, пережить эмоциональный всплеск, но так и не перейти к новому качеству жизни. В библейских сюжетах аналогом этого служит отказ третьего раба из притчи о талантах вступить в рискованное испытание: избегая перехода, он теряет и старое, и не обретает нового. Таким образом, успешное завершение инициационного процесса требует не только внутренней готовности, но и компетентного сопровождения, а также реальной открытости к встрече с Тем, кто превосходит человеческие ресурсы.
О границах психологического подхода (Павел Великанов)
После трёх докладов, погружённых в психологию и экзегетику, следующее выступление стало своего рода «холодным душем» — не случайно сам докладчик предупредил, что его слова могут не всем понравиться. Протоиерей Павел Великанов
поднял тему психологизации — феномена, который, по его словам, сегодня становится новым культурным мифом. Великанов с иронией и точностью описал, как популярные психологические термины, техники и представления проникают в повседневность, превращаясь в своеобразные «пси-очки», через которые человек начинает смотреть на всё: на других, на мир, на Бога и на себя.
Используя метафору из Клайва Льюиса о взгляде великана, превращающем всё живое в прозрачную анатомию, он показал, как рационализирующий и отчуждённый взгляд психологии может «разъедать» пространство священного, сводя любовь — к физиологии, веру — к технике, а страдание — к набору диагнозов. Его анализ культурного «сэйфтизма», где безопасность возводится в абсолют, звучал как предупреждение: психологизация может стать не инструментом понимания и помощи, а защитным щитом, за которым человек прячется от настоящей жизни.
Условия применения психологических методик в практике христианского душепопечения (Иоанн Мыздриков)
Если Великанов говорил о массовых культурных процессах, то следующий доклад вновь вернул фокус к пастырской практике. Диакон Иоанн Мыздриков, психолог и супервизор, выступил с размышлениями о том, на каких условиях психологические методики могут быть органично применены в христианском душепопечении. Он обозначил три ключевых условия: ситуацию психологического общества, оптику депатологизации и принцип функциональности.
Ситуацию психологического общества он описал как новую культурную реальность, в которой психология стала самостоятельным языком самопонимания современного человека. Для миллионов людей термины из психологического лексикона — тревога, стресс, личные границы, выгорание, депрессия, кризис — превратились в повседневные категории описания себя и своей жизни. Священник, встречаясь с человеком, говорит с тем, кто уже мыслит в этих координатах. Попытки «очистить» человека от этого языка нередко воспринимаются им как отвержение. Поэтому задача пастыря — не заменить психологию богословием, а научиться переводить психологические категории в духовно-богословский контекст, сохраняя глубину опыта и открывая его духовное измерение. Это создаёт пространство для подлинного диалога, где вера и психология не противопоставляются, а сосуществуют.
Мыздриков особенно подробно остановился на депатологизации страдания — движении современной психотерапии, которое отказывается воспринимать боль как отклонение от нормы. В этом он увидел глубокое созвучие с христианской традицией: страдание — универсальная часть человеческого пути, не повод для стигматизации, а возможность раскрыть глубину человеческой зависимости от Бога и от других людей. Он показал, как пастырь, встречая человека, говорящего «на психологическом языке», может не отвергать, а переводить — сохраняя духовную глубину опыта.
Наконец, принцип функциональности описывает сдвиг от ярлыков и классификаций к процессуальному пониманию человеческого поведения: не «что это такое», а «зачем это нужно и как это работает». Один и тот же поступок может иметь разное значение в разных контекстах, и именно контекстное, функциональное мышление позволяет пастырю уйти от механических оценок и вступить в подлинное понимание человека. Оно открывает возможность использовать психологические методы (например, телесные или языковые практики) не ради теоретических оснований подходов, а ради их реальной пользы в конкретной ситуации — при этом не превращая пастыря в психолога.
Психология христианского света: К столетию книги С.Л. Франка «Смысл жизни» (Олег Валуев)
Последний в этом блоке доклад — слово Олега Сергеевича Валуева — стал своеобразным резонансом ко всем предыдущим. Он говорил о «телескопическом взгляде», о настроенных линзах, которые позволяют видеть свет, проходящий через окрашенное стекло человеческой души. Валуев связал психологию с вертикальным измерением: человек, по его словам, — «странное промежуточное существо», способное не только падать, но и карабкаться вверх. От метафор витражного стекла Антония Сурожского он перешёл к Бердяеву и Франку, показав, что разговор о психологии — это разговор о соединении времени и вечности, земли и неба, человеческого и божественного.
Его выступление стало точкой внутреннего собирания всей панорамы дня: от детских травм и личных кризисов — к опыту восхождения, к необходимости «практик ресакрализации», о которых говорил Маслоу. Валуев не давал готовых ответов, но предлагал язык, на котором психологи, богословы и практики могут говорить об одном и том же, стоя рядом и глядя не друг на друга, а в одну сторону — развития профессиональной Христианской психологии.
Отзывы участников
Задайте нам вопрос
+7 (495) 135-45-84
(с 9:00 до 19:00 по Мск)
conference@psy-person.ru
(с 9:00 до 19:00 по Мск)
conference@psy-person.ru
Или сначала изучите раздел Вопросы и ответы